«Бродский вообще ни под какое влияние не попадал»
Интервью с художником и писателем Эдуардом Кочергиным
— В одном из интервью вы упомянули, что Иосиф Бродский четыре с половиной месяца жил у вас в квартире. Расскажите подробнее об этом эпизоде: когда это случилось и с чем было связано?
— Это произошло в 1967 году, я познакомился с Бродским через художницу Марину Басманову, но для начала немного предыстории. Марина училась в Ленинградской средней художественной школе при институте Репина. Я там тоже учился, но был немного старше. Родители Марины — замечательные художники: отец, Павел Иванович, был графиком и живописцем, а мама, Наталья Басманова, очень хорошим книжным графиком. Они оба музейные художники, их работы находились в разных музеях страны, в том числе и в Русском музее. Дело в том, что Басмановы очень верующие люди, поэтому, узнав о беременности дочери, они потребовали, чтобы Иосиф женился на ней и стал православным. Он отказался креститься. Марина родила [Андрей Осипович Басманов родился 8 октября 1967 года. — Ю. Л.]. А ей отказали в мастерской и в доме семьи, то есть им элементарно негде было жить, поэтому Басманова была вынуждена искать квартиру.
— Очень любопытно про отказ от крещения в столь драматичных обстоятельствах. Басманова в ту пору жила на улице Глинки со своими родителями?
— Поначалу она жила с родителями, но, покинув роддом, остановилась с ребенком у меня. У меня было свободное помещение, точнее, в одной комнате я работал, а вторая пустовала. Жена моя с сыном тогда гостила у своих родителей в Волгограде. Естественно, Иосиф пришел к Марине, и с нею ко мне в квартиру, где мы и познакомились. Это было роскошное место: квартира на четвертом этаже старинного дома на улице Герцена, бывшей Большой Морской. Квартира с балконом, с которого открывался вид на купол Исаакиевского собора.
— То есть вы были свидетелем первой встречи Иосифа со своим сыном?
— Именно так, у меня это и произошло. Может быть, конечно, Иосиф встретил их в роддоме, тонкости я уже не помню, это было давно — но они приехали вместе. С начала 1960-х годов я уже слышал, что есть такой талантливый поэт в Ленинграде. Но лично с ним до этого не встречался, а вот Басмановых знал как старших коллег по цеху и очень уважал этих замечательных питерских художников. Так они, Иосиф с Мариной, жили у меня с мая по октябрь, то есть больше четырех месяцев.
— Насколько известно, пара рассталась через два месяца после рождения ребенка. Они именно жили вместе, то есть Бродский не просто приходил навестить новорожденного сына?
— Жил с ней или приходил — не знаю. Дело в том, что я не все время был дома, я там работал. У меня были заказы на стороне, и я отлучался. По-моему, к тому времени у меня уже были проекты в Москве, требовавшие командировок.
— Вид из окон вы уже упомянули, опишите интерьер квартиры и ее фактуру?
— Иосиф с Мариной, как я уже сказал, жили отдельно, в комнате со старой печкой. Квартира располагалась на улице Герцена, сегодня это вновь Большая Морская, дом 34. Набоковский дом находится за Исаакиевской площадью, а этот — дом художников — ближе к Невскому и Гороховой. А мой дом находился рядом с Союзом художников, бывшим Обществом поощрения художеств.
 Большая Морская, дом 34
Большая Морская, дом 34
Потом с этой квартиры я переехал на Васильевский остров. На самом деле это была большая коммуналка, но у меня была «квартира в квартире», то есть в ней находилась маленькая кухонька со своей водой, что очень важно. По коммунальным меркам там было достаточно нормально, даже чуть лучше, чем у других. Я жил один с середины октября 1967-го и до того момента, как вернулась моя семья. Марина с ребенком и Иосиф уехали раньше. Я не знаю подробностей, как там у них все происходило, может, они разошлись, но в какой-то момент родители разрешили Марине с Андреем переехать жить в их мастерскую, на улицу Глинки, в знаменитый дом Бенуа, напротив Никольского собора.
— Для читателей Бродского инициалы «М. Б.» — такой возвышенный романтизированный образ, объект многочисленных посвящений поэта. Вы же наблюдали их быт и совместную жизнь, чайник вместе на кухне разогревали?
— Я совместную жизнь ни с кем не наблюдаю. Как-то за этим не слежу совершенно. Марина не хозяйка, она художница. Наверное, она там что-то разогревала, у них была своя плитка. У меня была своя кухонька, кровать для пацана маленькая, печка и стол. Больше ничего не было. Никакой мебели — пустые комнаты.
Я близко с Мариной не дружил, просто уважал эту семью питерских художников. К Марине нормально относился, она талантливая и писала очень хорошие вещи, только очень долго все делала. Басманова для художницы была «нерентабельна», ей зарабатывать было чрезвычайно трудно, потому что она дикое количество времени сидела над каждым рисунком. Но в смысле вкуса была очень тонким человеком большой культуры. Еще, конечно, очень хорошо понимала поэзию.
— В чем это выражалось?
— Она знала наизусть огромное количество стихов, знала разных поэтов — была по этой части ходячей энциклопедией. Очевидно, что они неслучайно сблизились с Иосифом.
— Вы отметили ее медлительность в исполнении — я помню, Лев Лосев в мемуарах вспоминал, что от нее месяцами приходилось ждать обещанные иллюстрации для редакции «Костра». Это что-то, что передалось ей по наследству, то есть у родителей была такая же техника? Ведь их работы очень похожи в исполнении.
— Марина по манере ближе к матери, конечно. Но она более медлительная, чем они оба вместе взятые. Удивительно обстоятельная, а с таким подходом трудно было заработать. Но делала она изумительные, красивые вещи. В последние годы мы не виделись. С ней больше общалась моя первая жена, художник по костюму, Инна Габай, но она умерла.
— Этот момент общения важен, потому что большинство свидетелей, вспоминающих Марину, отзываются о ней как о чрезвычайно молчаливом существе.
— Да, она не митинговала нигде. Но то, что она была образована и с большим вкусом, — это точно.
— Какое влияние Марина оказывала на Иосифа во вкусовом плане? Хотя они тесно общались, Бродский, насколько можно судить, остался не подвержен чужим предпочтениям.
— Я думаю, что да, он вообще был независимый по характеру и своим данным. Вряд ли он зависел от Марины, просто она составляла его среду, что немаловажно. Она по тому времени очень подходила ему, не в последнюю очередь, как я уже отметил, будучи очень образованным человеком в поэзии. Она знала его вещи наизусть!
— И все-таки в среде самого Бродского Басманова держалась особняком. Очевидно, что она из нее даже выбивалась.
— Это от характера, наверное. Мне трудно сказать. Я был знаком с другими его приятелями и сейчас с некоторыми продолжаю поддерживать хорошие отношения, например, с Яковом Гординым. Я все же художник, я с другой планеты, да и мне некогда было, ведь я зарабатывал деньги на семью. Работы у меня было невпроворот, я постоянно рисовал и выполнял заказы, не только для Питера.
 Марина Басманова с сыном
Марина Басманова с сыном
— Иосиф посещал вашу мастерскую?
— Приходил. Ему нравились мои рисунки: он любил более прориси на белой бумаге карандашом, чем цветные эскизы декораций. Я работал не только для городских театров, но и для народных, тогда можно было там неплохо заработать. Я сотрудничал с ними через Худфонд, а работы у них оценивались по эскизам, то есть, чтобы заработать, нужно было сделать много добротных эскизов. Рисовальные дела, в общем. Иосифу нравились мои прориси, которые еще не были покрашены. Он говорил: «Да оставь! Не надо красить. Зачем?» Я ему возражал, что если не выкрашу, то мне ничего не заплатят. Вот все эти рисунки-прориси карандашом — с мебелью, интерьером — его и привлекали. Меньше нравились уже готовые, рабочие эскизы.
— К каким пьесам вы тогда делали эскизы?
— Я помню, что сделал четыре эскиза, понравившиеся Бродскому, к пьесе Бабеля «Мария». Эта вещь редко шла, но в какие-то годы ее выпускали на сцену. Ставил пьесу талантливый режиссер Табачников, который, к сожалению, рано ушел. Он одно время был главным режиссером Театра Ленинского комсомола в Питере, а Бабеля ставил на сцене Дома культуры Промкооперации. И вот Иосиф увидел мои рисунки, ему пришелся по душе их конструктивизм: это были три переплетенные арки, представлявшие собой как бы супрематическую аркаду Главного штаба, если ее перевести на язык супрематической графики. Они хранились в моей старой мастерской; два эскиза, по-моему, съели крысы, а один где-то есть. О других работах сказать не могу, но про бабелевскую «Марию» помню точно, потому что Иосиф даже не читал эту пьесу еще и спрашивал у меня о сюжете.
— А сам он пробовал рисовать у вас в мастерской?
— Рисовал, и очень хорошо. В основном делал карандашные рисунки. Кстати, несколько лет назад состоялась выставка его графики в Публичной библиотеке, и потом к 75-летнему юбилею Бродского выставлялись рисунки из собрания Эры Коробовой в частной галерее. Я был на этой выставке и на ее обсуждении.
— Как вы охарактеризуете графику Бродского?
— Очень такая самодельная с точки зрения профессионала. Но очень изысканная, со вкусом хорошим и упругим рисованием. Ему нравилась классика, суперклассика.
— Вы можете объяснить, почему у Марины и Иосифа были совершенно разные стили?
— Почему они должны быть одинаковыми? Она училась профессионально, а он самоучка.
— Несмотря на то, что она профессионально училась, у нее наивная школа, анатомией там не пахнет...
— И у матери ее тоже наивная. У отца уже в меньшей степени, там игра — он был художником высокого уровня. Но если так говорить, то и у Ларионова наивное рисование, и у Гончаровой. Это разные дела. Наивность тоже является стилем.
— И все-таки парадоксально, что Иосиф не попал под влияние Марины, профессионального художника, сохранив самобытную стилистику.
— Он вообще ни под какое влияние не попадал. Он и как поэт сам по себе. Конечно, на него многие влияли, но он все равно оставался собой, поэтому и стал тем, кем мы его знаем.
— Помните разговоры с ним об изобразительном искусстве?
— Ему нравилась классика, абсолютная академия начала XIX века. Между прочим, Марина в ту пору очень напоминала тетенек начала XIX века.
— Вы имеете в виду пластику поведения или то, как она одевалась?
— Весь ее облик оттуда был. Это его тогдашний вкус. Думаю, что Марина такой родилась.
 Рисунок Бродского
Рисунок Бродского
— А он откуда был человеком? Был ли Иосиф «оттепельным» человеком?
— Я не знаю насчет этих всех оттепелей-неоттепелей. Я по этой части не знаток. Мне даже не нравится, когда людей причисляют к чему-то подобному.
— Я уточнил, потому что вы сами где-то вспоминали об открытии в Эрмитаже третьего этажа с полотнами импрессионистов и последовавшую затем осеннюю выставку Пикассо, собиравшую каждый день толпы молодежи. Для меня это четкий маркер начала шестидесятничества. Насколько, по-вашему, вкусы Бродского в искусстве оказались сформированы переломом в эстетике, когда, казалось, изменился сам состав воздуха?
— На этой выставке было интересно, что когда вы поднимались по лестнице, то на одной из стен третьего этажа висел фанерный щит, на который все вешали свои отзывы. Позже он исчез. Там среди всяких ругательных и хвалебных фантастических отзывов была потрясающая бумажка в клеточку, на которой кто-то написал: «Если бы я был жив, я бы это запретил. И. Сталин». Это очень запомнилось. Выставка стала своеобразным Рубиконом. Еще было собрание художников на Площади искусств, где эта выставка обсуждалась. Оттуда всех разогнали, кого-то даже забрали и арестовали. Но в ту пору начали проводить интересные выставки, которые открыли много содержательного, и сознание очень многих как-то повернули, особенно художников.
— С Бродским вам доводилось совместно посещать художественные выставки?
— Мне было некогда — у меня в ту пору образовалось очень много работы и в Питере, и в Брянске, и в Калуге, каких-то других городах... Черт-те что. В ту пору я зарабатывал опыт и имя скорее, чем деньги. Но потом, когда пришел успех, стал зарабатывать больше. Постепенно я вышел на какой-то уровень. В нашей профессии во время социализма практически социализма не было. Кто лучше, тот и пан. Поэтому надо было вкалывать. Я в эти годы стал служить в Театре им. Комиссаржевской.
— Как раз в те годы, если не ошибаюсь, там служила Дора Вольперт, тетка Бродского.
— Я ее хорошо знал. Дора была знатной актрисой. Я перешел туда из Театра драмы и комедии. Меня пригласил стать главным художником Агамирзян. Алиса Фрейндлих тоже там работала, но я пришел, а она ушла в Ленсовет.
— Позднего Бродского мир театра не очень привлекал, а известно ли что-то о его контактах с театральной средой Ленинграда до эмиграции?
— По этой части ничего сказать не могу, потому что мне некогда было ходить в театр. Он знал, что я работаю в театре, видел все, что я делаю, но с ним тогда ходить было некогда. С меня в то время «шел пар». По ночам я читал в своей комнате, лежа на полу, у меня мебели никакой не было. Я был беден как крыса. Поэтому даже не знаю, в какой он театр ходил.
— В беседе с итальянским театральным критиком на вопрос, помнит ли он, когда в первый раз в жизни пошел в театр и какое это произвело на него впечатление, Бродский ответил, что ему было лет шесть, и это был сюжет из «Тысячи и одной ночи» в кукольном театре (по-видимому, он имел в виду Большой театр кукол на улице Некрасова неподалеку от его дома). Ему запомнились очертания минаретов на фоне лазурного неба и имя Шехерезада, и еще поразило несоответствие между кукловодами, которые вышли к зрителям по окончании спектакля, и их персонажами.
 — Иосифу нравился цирк, по-моему. Я пять лет работал на цирк, придумывал и оформлял много цирковых программ. Меня даже пригласили главным художником Ленинградского цирка, но я все-таки выбрал театр. В цирке мне довелось делать много знатных программ, таких как для фокусника Кио или цирка медведей Филатова. Это были крупные программы. И вот Иосифу понравились эскизы ковров, которые мне пришлось делать для одного из представлений. Еще я придумал занавес для форганга, отделяющий зрительный зал от закулисной части. Бродский его осмотрел и нашел в нем что-то близкое. Я чувствовал, что атмосфера цирка ему нравится.
— Иосифу нравился цирк, по-моему. Я пять лет работал на цирк, придумывал и оформлял много цирковых программ. Меня даже пригласили главным художником Ленинградского цирка, но я все-таки выбрал театр. В цирке мне довелось делать много знатных программ, таких как для фокусника Кио или цирка медведей Филатова. Это были крупные программы. И вот Иосифу понравились эскизы ковров, которые мне пришлось делать для одного из представлений. Еще я придумал занавес для форганга, отделяющий зрительный зал от закулисной части. Бродский его осмотрел и нашел в нем что-то близкое. Я чувствовал, что атмосфера цирка ему нравится.
— Да, это интересная тема. В упомянутом уже итальянском интервью 1995 года не без некоторого эпатажа Бродский заметил: «Серьезный театр стремится уподобиться бане; рано или поздно во имя реализма персонажи остаются на сцене голыми... Если я затоскую по реализму, я, скорее, отправлюсь в цирк». Кажется, что цирк в своей основе тяготеет к балагану, площадному искусству, а Бродский — серьезный классицистический поэт, но если вспомнить его «Представление», то оно ведь совершенно цирковое.
— Ему нравились эти вещи. Увы, у меня эскизов для цирка не сохранилось, потому что оригиналы проданы. Как правило, эскизы вообще-то принадлежат художникам, но цирк у автора их приобретал, и они переходили в его собственность. Дело в том, что цирковые шоу много гастролируют, у них изнашиваются декорации, и они их повторяют на основе имеющихся лекал. Поэтому за эскизы они предпочитали платить и забирать себе в фонд. Когда я много лет спустя готовил свою выставку, то хотел что-то найти из той серии, но от цирка обнаружились только три эскиза. Сейчас у меня их осталось всего два и рисунки костюмов, которые были раздарены. Я ведь еще делал дизайн костюмов для цирка — даже медведя одевал для цирка Филатова. За что только не брался, и Кио делал. Эмиля Кио, сына. Я старый уже — старше Иосифа.
— Раз уж речь зашла о возрасте — на дне рождения Иосифа вы никогда не были?
— Нет, я не был его приятелем или другом. С ним дружил Яша Гордин.
— Я больше склонен доверять таким людям, как вы, которые говорят, что они не были приятелями. Если перефразировать Бродского, то можно сказать, что из его вдруг появившихся приятелей «можно составить город».
— Вот поэтому я и не суюсь в это дело.
— Вернемся к театру: вы видели спектакли, основанные на его произведениях или посвященные Бродскому?
— Видел, и не один. Результат зависит от режиссуры и от артистов. Для меня лучше его читать. Пока я не знаю режиссера, который удачно бы сделал Бродского.
— Спектакли, основанные на произведениях Бродского, которые мне довелось увидеть, оставили впечатление довольно беспомощных попыток нащупать адекватный сценический эквивалент его творчеству. Как будто бы исходник сам сопротивляется этому. А как вы себе представляете эстетику Бродского с точки зрения оформления спектаклей по его произведениям?
— Об этом лучше не спрашивайте, потому что абстрактно об оформлениях нельзя говорить, это очень конкретная работа. Оформление — это театр, сцена, традиция данного театра. Кто артисты, какой режиссер, особенности автора. Главное, конечно, автор — как это все ложится на режиссуру, на сцену. Оформление — это такая штука, которую так вот не закажешь.
— Для вас воля режиссера и его видение первостепенны или вы как художник готовы спорить во имя решения художественной задачи?
— Роль художника вторична, ставит спектакль режиссер. Если я с ним не согласен, то должен уйти. Повернув режиссера силком, ты можешь влипнуть: он потом, репетируя, все изменит, а ты окажешься в дураках, потому что оформление делают заранее. Может получиться так, что твоя декорация окажется не нужна, потому что он все изменит по ходу дела. Поэтому самый лучший вариант — это договориться. Режиссер же ставит, он должен сказать, про что он ставит, почему эта пьеса ему нравится, с какими идеями зритель должен выйти из зала. Если этого не произойдет, то это очень опасно для художника, режиссера, театра и зрителя. Все может погореть. Поэтому самый рабочий вариант — поддавки. У нас свои категории, в режиссуре — свои. Если удается соединить эти разные категории вместе, чтобы они казались органичными, и все это донести до зрителей, они уйдут со спектакля довольными.
— У Бродского к театральному делу, скорее всего, тоже отношение было как к труду коллективному. Ю. П. Любимов рассказывал, что когда Бродский написал для его спектакля «Медея» тексты хоров, то сопроводил присланное длинной инструкцией, как по его мнению, их следует исполнять: мол, тексты такие выразительные, что «ни в коем случае нельзя „пережимать“». Что, на ваш взгляд, имелось в виду? С одной стороны, играть в поддавки, а, с другой, у Бродского как автора перевода тоже было определенное внутреннее видение того, как текст должен читаться на сцене.
— Конечно, пишущий человек имеет право на это видение. Не знаю, прислушался ли Любимов к этому совету, постановку я не видел. Он был сложным типом, который мог прислушаться, а мог и нет. Я с Любимовым работал, делал ему «Ревизские сказки» Гоголя. С его главным художником Давидом Боровским я дружил, он был мой ближайший друг и гениальный художник. Сейчас мы дружим с сыном Боровского — Александром, который продолжает дело отца и работает главным художником МХАТа. Что касается Любимова, то у меня отношение к нему... невосторженное.
— Встречались ли вы с Иосифом после его эмиграции?
— Я встречался с ним два раза в Нью-Йорке, был у него дома, в его забавной квартире на Мортон-стрит. У него был крохотный клочок земли, где стояли одно дерево и металлический стол с белыми стульями. Стены маленькой квартиры были заполнены книжными полками, кухонька находилась в узком коридоре, и проход вел в его спальню, где стояла огромная кровать, занимающая практически все пространство. Когда я рассмотрел обстановку, он понял по моему лицу, что я не в восторге.
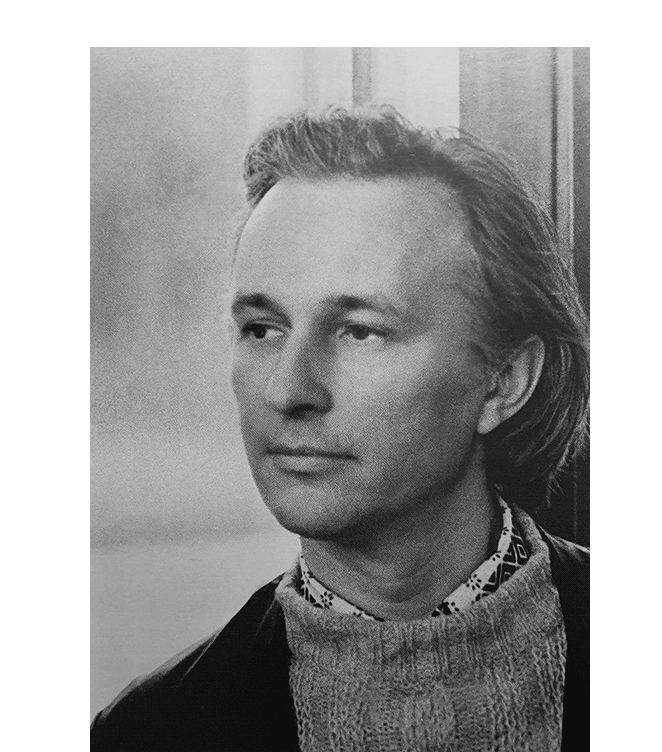 Эдуард Кочергин, 1970-е годы
Эдуард Кочергин, 1970-е годы
— Вы хотите сказать, что Бродский немного смутился?
— Нет. Отшутился про судьбу поэта. Это был конец 1970-х годов.
— Что вас, советского гражданина, привело в Нью-Йорк в семидесятые годы?
— Я оформил два спектакля в Принстоне, 60 верст от Нью-Йорка. Один с Товстоноговым по «Дяде Ване» Чехова, это примерно 1978 год. Другой — с местным режиссером про Чернобыльскую АЭС. Пьеса называлась «Саркофаг», ее по следам Чернобыльской аварии ставил американский режиссер Нейгл Джексон [р. 1936, автор нескольких пьес, художественный руководитель театров Милуоки и МакКартер, живет в Принстоне, Нью-Джерси. Премьера пьесы «Саркофаг» состоялась в апреле 1989-м, до этого в разгар перестройки, в 1988-м, Джексон ненадолго приезжал для сотрудничества с театральными коллективами в Ленинграде. — Ю. Л.]. Ему понравилось мое оформление «Дяди Вани», и поэтому он меня пригласил специально поработать с ним в театре МакКартер в Принстоне, штат Нью-Джерси.
— То есть вы нашли Иосифа, находясь в заграничной командировке с советским театром?
— Я нашел его и привез ему фотографии его сына Андрея, а он переправил со мной в Ленинград приглашение для сына. Андрей затем оформил визу, приехал на побывку к отцу и пробыл месяц в Массачусетсе.
После того, как мы встретились с Иосифом у него в квартире, он пригласил меня в японский ресторан, который держали его приятели-японцы. Он любил японскую кухню.
— Именно японскую, не китайскую?
— Именно японскую. Ресторан находился на берегу знаменитого Гудзона в Гринвич-Виллидж. Мы немного погуляли по тому району, где ходили в ресторан.
— Как он изменился за то время, пока вы не виделись?
— Выглядел нормально. Скучал. Жаловался на сердце. У меня тоже был инфаркт, вот мы и обменялись информацией. Он вспоминал врача, которая в Питере следила за его сердцем. Замечательная тетенька, работавшая в сердечном санатории под Зеленогорском главным кардиологом. У нее я тоже лечился на реабилитации после всех больниц в Питере.
— Любопытно, что в Америке, несмотря на продвинутую американскую медицину, он с теплом отзывался о советском враче.
— Такого внимания, которое она ему уделяла, у него там в Америке не было!
— Ну и он был молодым человеком, когда к ней попал — это, вероятно, налагало на нее какие-то обязательства. Значит у вас было две встречи с Бродским в Америке, обе в Нью-Йорке?
— Однажды мы встречались с ним также вместе с Товстоноговым. Потом, когда я приехал на второй спектакль, мы вновь увиделись, но эта встреча получилась более короткой, потому что он уезжал преподавать в Массачусетс. Он же зарабатывал деньги, преподавал в каком-то колледже.
— А реакцию Иосифа на Товстоногова вы помните? Для него тот представлял авторитет — все-таки легендарный режиссер?
— Давления авторитетов я не почувствовал, да и сам Товстоногов был умным человеком. Что касается меня самого, то посмотрите мою биографию — у меня совсем другие представления об авторитетах, я же детство в детприемниках НКВД провел, прошел через трудовые и исправительные колонии. Какие авторитеты для меня?
 — Михаил Барышников рассказывал, что о театре Иосиф разговоров не любил, называл его «лицедейством», предпочитая хорошее кино (в то время как Барышников театр всегда любил и пытался переубедить друга, но тщетно). Какие предпочтения в кинематографе были у вашего поколения, ведь это была важная часть жизни тех лет?
— Михаил Барышников рассказывал, что о театре Иосиф разговоров не любил, называл его «лицедейством», предпочитая хорошее кино (в то время как Барышников театр всегда любил и пытался переубедить друга, но тщетно). Какие предпочтения в кинематографе были у вашего поколения, ведь это была важная часть жизни тех лет?
— Я терпеть не могу кинофильмы, почти их не смотрю. Если я долго смотрю на экран, мне плохо становится. Кроме того, такое количество дерьма в кино, что упаси бог! Но какие-то хорошие фильмы по рекомендации я смотрел, конечно, правда их мало. Про Бродского смотрел фильм «Полторы комнаты» Андрея Хржановского. Я хорошо знаю художницу этого фильма — Марину Азизян, мы с ней дружим с древних времен.
— Насколько удачным, по-вашему, получился материальный мир 1960-х — 1970-х, воссозданный в фильме Хржановского? Предлагаю исходить не столько из презумпции достоверности, а из искусственно воссозданного прошлого как некой эстетической категории.
— Там все замечательно, но абсолютного восторга я не испытал. Нормальный фильм, сделан приличными людьми, хорошо сыгран, если это вообще возможно сыграть. Это вряд ли возможно по-настоящему. Я знаю дом, но сам в полутора комнатах при жизни Иосифа не был.
— В музее Анны Ахматовой работает экспозиция «Американский кабинет И. Бродского». Как вы знаете, существует надежда на скорое открытие музея-квартиры Бродского в Доме Мурузи на Литейном и Пестеля. Давайте представим, что лично у вас есть неограниченный бюджет и, главное, влияние на то, каким будет облик будущего музея поэта в Петербурге. Какой вам представляется его художественная концепция? Какую бы обстановку или декорации (если уместно так говорить о музее) вы бы предпочли?
— Я не могу вам сказать, потому что это сложная штука. Но за всем этим должна быть идея. Если туда будут втискивать все про Бродского, то никакой идеи не получится. Будет просто абракадабра и винегрет. Там нужна глобальная, но и в то же время очень простая концепция. Полторы комнаты — это музей «на понюх».
— С какими задачами организации пространства в «полутора комнатах» придется столкнуться будущим кураторам музея поэта Бродского? Делать мемориальное пространство или модерное, с мультимедийными элементами?
— Музей есть музей. Это явно мемориальная история. Но как это сделать? Если на полторы комнаты найти фотографии, занять все пространство фотографиями, а больше ничего... Я не видел хороших объемных вещей, связанных с Бродским. Видел какие-то пробы, но, к сожалению, это жидковато. Лучше просто качественные фотографии. Плоское пространство. Больше ничего. А там каждый пусть смотрит и думает. Нельзя из полутора комнат сделать музей, тем более о поэте.
— Я сейчас подумал об упомянутой вами в начале этого разговора скромной утвари, которая была в комнате с Мариной, — кровать, печь и тазик.
— Да там ничего не было.
— Кроме самой жизни и ощущения поэзии: как в стихотворении «Шесть лет спустя» (1968):
Так долго вместе прожили, что роз
семейство на обшарпанных обоях
сменилось целой рощею берез...
— Глобальный способ решения этой задачи найти не так просто. У меня не было фотоаппарата, тогда не было этих телефонов с камерами. И совместных фотографий с Иосифом не осталось. Жалею ли, что их нет? Можно было бы сделать, он симпатяга и умный был. Я не беру его «трах-тибидох», всякие величия, а просто как тип он был интересен.
— В собственном творчестве прозаика-мемуариста вы чувствуете необходимость сверки внутреннего ориентира, который учитывал бы присутствие нобелевского лауреата в вашей литературной биографии?
— Как ориентир не держу — это совершенно другое. Я вообще с другой планеты, из другого мира. Мои писательские дела совершенно другие, почитайте «Крещенные крестами». Мне просто какие-то вещи близки, но чтобы я числил его своим сторонником... Я люблю просто читать поэзию, но ни одного стихотворения в жизни не выучил наизусть. Не могу наизусть что-то выучить, это мне не дано, зато у меня гениальная зрительная память.
Бродский подарил мне свою книжку, за которую он получил премию. Эта книга вся замечательна. А еще я другую раннюю его книжку привез контрабандой из-за границы. За такое могли дать восемь лет тюряги, если бы обнаружили. Но я был опытен.
— Из Америки привезли?
— Нет, из Парижа, еще до поездки в Соединенные Штаты. Забавно.
— Американский экземпляр с автографом?
— Есть, да. То, что он написал, он и сказал тогда, отреагировав на мою физиономию, когда я осмотрел его помещение на Мортон-стрит. Так и осталась надпись на нобелевской книге как доказательство, что я с ним знаком был. Хотя меня не колышет — кто верит, а кто нет.