Апостол эстетов: почему нам всем нужно читать Михаила Кузмина
Интервью с литературоведом Ладой Пановой
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— Что лично для вас значит творчество Кузмина? Что вам дало глубокое изучение его творчества?
 Лада Панова
Лада Панова
— Кузмин в моей жизни появился поздно. Помню: лето, дача, снятая в подмосковном Кратово, дописываемая книга о языковой картине мира Мандельштама. А на досуге — чтение Кузмина и размышления о том, что к уже освоенному мандельштамоведению и лингвистической поэтике хорошо бы добавить новые литературоведческие области.
Кузмина я, конечно, читала и раньше, но раскрылся он для меня именно в ту пору. Раскрылся на «Александрийских песнях», в которых Древний Египет и Александрия, увиденные поэтом в поездке по Египту и вычитанные из книг, наложились на коллизии его любовной биографии. Полной захваченности этим циклом способствовало мое давнишнее увлечение древним Египтом и турпоездки в Каир и на Синай.
Но есть разница между тем, чтобы просто любить «Александрийские песни», и тем, чтобы их изучать. Вот как у меня произошел переход из одной категории в другую. Я тогда работала в Институте русского языка РАН, где уже защитила диссертацию по языку Мандельштама, впоследствии ставшую монографией. Моим научным руководителем, а потом коллегой по Отделу языка художественной литературы был М. Л. Гаспаров. Отлично понимая, что «Александрийские песни» — в первую очередь про античность, а она входит в компетенцию Михаила Леоновича, я спросила его, не собирается ли он заниматься «Александрийскими песнями». Тот же вопрос я задала сотруднице нашего отдела, защитившей по Кузмину кандидатскую. Получив отрицательный ответ от обоих, я приступила к сбору материала, и так постепенно стала складываться моя вторая монография «Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Кузмина». Она доставила мне, во многом благодаря Кузмину, радость и счастье открытия чего-то совершенно для меня нового. Незадолго до смерти Михаил Леонович успел прочитать кузминские главы «Русского Египта» и даже поверх этих глав написать стиховедческую работу, которую предложил включить в книгу. Это его завещание я выполнила. Те же главы я показывала ведущему кузминисту Н. А. Богомолову. Он посоветовал мне дополнить уже написанное архивными данными. Засев в РГАЛИ, я поняла, что картина, к тому времени полученная путем «обчитывания» произведений Кузмина с египетской тематикой, получает подтверждение.
В дальнейшем Кузмин предстал мне как редчайший человеческий экземпляр: свободный, взрослый человек, который с полной ответственностью берется строить свою судьбу и делает это с тем бесстрашием, которое свойственно верующим, знающим, что их жизнь — в руце Божьей. Культура, на которой я была воспитана, исходила из противоположного набора ценностей: шагать в ногу со всеми, наступать на горло собственной песне ради общего дела, страдать и мучиться, ставить любовь на последнее место, вообще, выковывать из себя интеллигента-стоика. Кузмин для меня послужил противоядием, не говоря уже о том, что раскрепостил в приятии себя и мира.
Но, признаюсь, я прежде всего эстет, и для меня состоявшийся писатель — тот, кто оставил после себя художественные открытия. Это как раз случай Кузмина. Его традиционно ценят как поэта. Я же, помимо лирики, высоко ставлю его драматургию, малую прозу и один роман — «Нежного Иосифа».
Наследие Кузмина изучено очень выборочно — и преступно мало. Это имеет предсказуемые минусы, но и плюсы тоже. Кузминистика в ее нынешнем состоянии позволяет исследователю пуститься в интеллектуальное плавание по неведомым волнам и испытать чувство, которое известно одним первопроходцам. Или, например, математикам, решающим уравнение, до тех пор не имевшее решения. Разбирая какое-нибудь произведение Кузмина и доходя до разгадки, я иногда спрашиваю себя: неужели я первая, кто понял, о чем оно?
Когда из мандельштамоведа и кузминиста я доросла до специалиста по русскому модернизму, это позволило мне соотнести масштаб — человеческий, творческий, культурный — Кузмина с масштабом его современников. По моим меркам Кузмин не уступает Блоку, Мандельштаму, Пастернаку, Цветаевой, Ходасевичу, Георгию Иванову (список можно продолжить). И тем печальнее его непризнанность — его невхождение в литературный канон. Проведем мысленный эксперимент. Если я произнесу: «Серебряный век» или «русский модернизм», то у интеллигентного читателя всплывет фигура кого угодно, но только не Кузмина, хотя по сути Кузмин — одно из наиболее представительных лиц этого периода.
А теперь попробую объяснить, что значит, что Кузмин открылся для меня поздно. У меня хорошая память на стихи и музыку. Я знаю наизусть почти всего Мандельштама и Ахматову, много Пушкина, Блока, Пастернака, Цветаевой, Есенина, Арсения Тарковского и других поэтов, которых полюбила в школьные и университетские годы. Вокальная музыка, особенно опера, тоже запоминается без больших усилий. Когда-то в одном «живом журнале» я вычитала мысль: как жаль, что я был(а) воспитан(а) на Ахматовой, которую знаю наизусть, а не на Кузмине. И поняла, что готова подписаться под ней. Я, увы, не держу в голове всех стихотворений Кузмина, а те житейские коллизии, которые за ними стоят, не вошли в мое сознание в том юном возрасте, когда читательский опыт становится определяющим.
Закончу ответ на ваш вопрос возвращением к «Александрийским песням». Сейчас они звучат для меня не только как стихи, но и как песни. Кузмин, будучи композитором, примерно половину цикла положил на музыку. Запись его собственного исполнения александрийских песен не известна (при том, что чтение им двух стихотворений каким-то чудом сохранилось). Но сориентироваться в музыкальном звучании «Александрийских песен» позволяют ноты, републикованные в «Русском Египте», и, конечно, компакт-диск с «Александрийскими песнями» в исполнении меццо-сопрано Милы Шкиртиль. В общем, если кому-то нужен совет, как настроиться на одну волну с Кузминым, то прекрасный способ — начать с «Александрийских песен».
— Какие сочинения Кузмина, на ваш взгляд, заслуживают сегодня первоочередного внимания и почему?
— Действительно, какие — если учитывать, что Кузмин написал увесистый том стихотворений, примерно 10 томов художественной прозы, два тома драмы, много томов дневников, несколько томов рецензий на книжные новинки и театральные премьеры?
В первую очередь заслуживают внимания произведения, которые по гамбургскому счету достигли абсолюта. Помимо «Александрийских песен» и дебютного кузминского сборника «Сети», в которые они вошли, назову два сборника темных, герметичных стихов Кузмина — «Параболы» и «Форель разбивает лед». Там не то что читателю, но даже и специалисту трудно разобраться. И все же язык, образность, интонация, ритмы действуют настолько завораживающе, что стихи запоминаются накрепко, долго не отпускают — и взывают к разгадке.
Из драматургии Кузмина рекомендую ранние религиозные «комедии» — особенно о Евдокии из Гелиополя и Алексее, человеке Божьем; эстетские «Прогулки Гуля» и антитоталитарную «Смерть Нерона». Все это, кстати, просится на сцену и на киноэкран. (Из Окуловки Новгородской области, где Кузмин гостил в 1907–1911 годах и где чтят его память, мне только что сообщили о местной постановке «Смерти Нерона».) У «Прогулок Гуля» есть мощный потенциал для того, чтобы превратиться в мультфильм для взрослых.
Из малой прозы Кузмина назову тексты, которыми я специально занималась и которым могу поставить знак качества с полной ответственностью. Это «Кушетка тети Сони», «„Лекция Достоевского“», «Портрет с последствиями», «Прогулки, которых не было», «Снежное озеро», не уступающие по своей сложности прозе Набокова, а по своей органике, вовлечению читателя в интеллектуальную игру — также и малой прозе Пушкина, включая «Станционного смотрителя». Очарователен и озорной диалог с пушкинским «Дубровским» в повести «Набег на Барсуковку», которую тоже рекомендую.
Кузмин актуален идеологически. В дневниках и произведениях 1916–1929 годов он поставил те неудобные вопросы, которыми мы мучаемся сейчас. Приведу в качестве примера его поздний шедевр — «Смерть Нерона», пьесу, которой я много занимаюсь в последнее время. В ней, пусть и по-эзоповски, бросается обвинение большевизму (тоталитаризму). По Кузмину, большевизм состоит из двух слагаемых: помимо политиков, повторяющих деяния безумных римских императоров, это также писатели — типа Горького, Брюсова, Блока, Маяковского, Хлебникова, — принявшие Октябрьский переворот и легитимировавшие советскую власть своими сочинениями типа «Двенадцати». Если современники-единомышленники Кузмина возлагали ответственность на «них», т. е. политиков, то Кузмин делает указующий жест и в сторону «нас», людей культуры. Обо всем этом моя публикация в октябрьском номере «Звезды».
О том, что Кузмин — представитель гонимых меньшинств и потому массовая российская аудитория позволяет себе от него отмахнуться, можно долго не распространяться. Потоки грязи, которые полились на него после публикации «Крыльев», оставили на его репутации черные пятна, пока что с него не смытые. Даже специалисты по Кузмину предпочитают закрывать глаза на его политику тела. Но я призываю читать «Крылья» и другие произведения Кузмина с полной серьезностью — так, как мы читаем Кавафиса, Федерико Гарсиа Лорку, Пруста. И тогда эти тексты раскрываются и захватывают своими человеческими коллизиями любого читателя, в том числе такого, как я — принадлежащего к гетеросексуальному большинству.
Последний пункт моего шорт-листа — дневник 1934 года, позволяющий прикоснуться к уникальной личности Кузмина, увидеть трезвость его ума, по достоинству оценить его мемуаристику. К тому же в этом дневнике Кузмин предстает живым как сама жизнь.
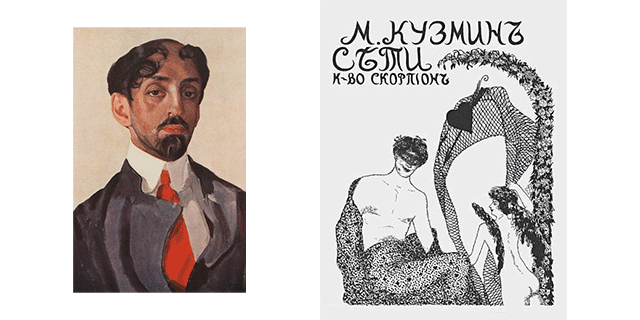
— Если окинуть биографию Кузмина одним взглядом, то можно ли в ней увидеть какую-то единую линию или какую-то идею? Будет ли, на ваш взгляд, этой линией или этой идеей жизнетворчество?
— Начну со слов благодарности Джону Малмстаду и покойному Николаю Алексеевичу Богомолову — авторам биографии Кузмина, точнее, двух. Английскую биографию 1999 года — о том, как жилось и творилось первому открытому гею, — отличает концептуальный подход. А постоянно пополнявшуюся Богомоловым русскую — обилие архивных данных и кропотливое прояснение жизненных коллизий.
Но, конечно, у каждого кузминиста возникает свой образ Кузмина. Несколько слов о моем. Кузмин и жизнетворчество — вещи взаимоисключающие. Ведь о жизнетворчестве заходит речь тогда, когда писателю тесно в избранной роли «художника», и он стремится стать чем-то большим, превращая свою жизнь в спектакль, адресуемый аудитории. Жизнетворцы Серебряного века жили под девизом «a realibus ad realiora», позиционировали себя пророками, магами, героями-любовниками, готовыми потрясти мир, как Антоний и Клеопатра, Председателями Земного шара, горланами-главарями. Ничего такого мы не найдем у Кузмина. Он прожил свою собственную, а не придуманную жизнь, при том, что он был религиозен, «реальнейшее» его не занимало, а внутри искусства ему было комфортно.
Я книгу предпочту природе,
Гравюру — тени вешних рощ,
И мне шумит в весенней оде
Весенний, настоящий дождь.
Не потому, что это в моде,
Я книгу предпочту природе —
такой строфой открывается одно из его программных стихотворений.
Стержневая линия биографии нашего юбиляра — осознать, кто он такой; взрастить свое артистическое «эго»; установить отношения с Богом, минуя те ветви христианства, в которых гомосексуальность считалась смертным грехом; воспитать для себя и под себя партнеров (потому что получать временное удовлетворение в банях — а такова была субкультура мужской гомосексуальности на рубеже XIX-XX веков, — было ниже его достоинства). В России до 1917 года и в послереволюционное время гомосексуалы из богемно-артистической среды (назову Чайковского, Дягилева, Сомова) не пытались осуществить такую программу, боясь навредить своей репутации, да и осознавая тщетность усилий. А Кузмин осуществил, и его биография — это, без преувеличений, чудо!
Все помнят реакцию Ахматовой на судебный процесс Бродского: «Какую биографию делают нашему рыжему!» В условиях, когда законы Российской империи загоняли сексуальные меньшинства в подполье, Кузмин делал свою биографию сам. Ее ключевым фактором стал, вообще говоря, подсудный каминг-аут — сначала домашнего масштаба, а потом всероссийского и всемирного. Речь идет о публикации романа воспитания «Крылья», после которой он просто позволил себе быть собой — и в жизни, и в творчестве. Полученная нонконформистская закалка дала о себе знать в советское время. Кузмин, в отличие от большинства современников, ни на йоту не прогнулся под коммунистическую идеологию. Вообще, между его личной и публичной биографией нет зазора.
У Кузмина сложилась и прекрасная творческая судьба, хотя — и тут просматривается все та же закономерность — обстоятельства этому не благоприятствовали. Он начинал как композитор, а свой литературный дебют — «Крылья» и «Александрийские песни» — осуществил в том возрасте, в котором иные писатели уже достигли статуса «мэтра» (эти параллели подробно разобраны в кузминской биографии Малмстада и Богомолова). Наличие таланта и неординарность по всем параметрам позволили Кузмину взять и этот барьер. Из «опоздавшего» он через два десятилетия превратился в лицо классической (или, как тогда говорили, «классицистической») поэзии, уходящей корнями в Пушкина.
В принципе, ничто не мешало Кузмину почивать на лаврах и в послереволюционное время, но он выбрал другой путь — создал стопроцентно модернистскую поэтику, став, если угодно, русским Элиотом, Йейтсом, Джойсом. Новая поэтика, как и неприятие всего советского, отбросили Кузмина на периферию культурной жизни СССР. Этот вираж своей судьбы он констатировал в дневнике 1934 года, но принял его со смирением.
Примеров, когда писатели жертвуют своей репутацией и даже славой ради того, чтобы не изменить себе, — считаные единицы. Творческая и человеческая биография Кузмина — именно про это.
— До сих пор в литературоведении вопрос о степени влияния Кузмина на творчество Анны Ахматовой остается дискуссионным. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— Прекрасный вопрос. При многочисленных сходствах, включая богемно-артистическую жизнь в Петербурге-Ленинграде и однополые романы, Кузмин и Ахматова — антиподы. Поэзия Кузмина — это естественность, искренность, в том числе отсутствие какого-либо позерства, подлинная человеческая и художественная глубина, распахнутость к миру, любовь по принципу «полюбил, потому что полюбил». Если же рассматривать поэзию Ахматовой под литературоведческой лупой, то окажется, что поэтесса тщательно конструирует свой образ, скрывая свое подлинное «я», актерствует, занимается постоянным самолюбованием, а драматические любовные обстоятельства использует как рычаг для управления аудиторией. Не забудем и чисто прагматическое искусство взаимодействия с публикой, которым Ахматова владела как никто: «У меня есть такой прием: я кладу рядом с человеком свою мысль, но незаметно. И через некоторое время он искренне убежден, что это ему самому в голову пришло». При всем том жизнетворчество Ахматовой выглядит очень натурально — и тем самым убедительно, как если бы его не было, это тоже часть ее искусства. Ахматовой, очевидно, удалось занять ту нишу, которую Кузмин создал для себя, а Кузмина — воспользуюсь современным сленгом — отменить (cancel). Когда-то «старший» Кузмин с присущей ему широтой благословил «младшую» Ахматову, написав предисловие к ее дебютному сборнику «Вечер», однако поздняя Ахматова — автор «Поэмы без героя» — не зачла ему даже этой малости. Она любила представлять Кузмина имморалистом, ответственным за крах прежней русской культуры.
Влияние на Ахматову Кузмина, а также Блока и других русских писателей вплоть до автора «Анны Карениной» состояло, если мыслить концептуально, в том, что и в жизни, и в творчестве она конструировала свой самообраз в соответствии с запросами эпохи. Это прежде всего запросы на драму, на образ то роковой, то несчастной от любви женщины, а также на образ гения, который вот-вот исчезнет из этого мира, так что цените его, пока он жив. Из поэзии Кузмина Ахматова усвоила любовную тематику как доминанту, металитературность (т. е. разговор о том, как устроены тексты, опору на авторитеты), не говоря уже о конкретных словечках, сюжетах и приемах. Так, по дневнику Лидии Чуковской известно, что «Поэма без героя» родилась из несколько запоздалого ознакомления с кузминским циклом «Форель разбивает лед». Из Второго удара «Форели» поэтесса позаимствовала его метрику, которую предложила назвать в честь себя: «ахматовской строфой». «Поэма», заметим, является приношением не герою, а героине — ее возлюбленной Ольге Глебовой-Судейкиной (ранее уведшей у Кузмина сразу двух его партнеров), и такой ход, воспевание объекта однополой любви, — тоже дань «Форели». Еще один мостик между двумя произведениями, давно и хорошо известный, — юный поэт-самоубийца Всеволод Князев. Если в «Форели» этот образ едва проглядывает, то в «Поэме без героя» Князеву отведен статус главного героя.
Ахматова и Кузмин — такие, какие есть; к ним нет и не может быть претензий. Другое дело — исследователи Ахматовой, отказывающиеся регистрировать кузминское влияние. Даже привязка «ахматовской строфы» к «Форели» то и дело ставится под сомнение. Почему? Потому, что Ахматова сделала важный прагматический ход — назвала себя ахматоведом номер один, с чьим мнением всякий исследователь должен считаться. Вот ахматоведение и считается, впадая в интеллектуальный грех «солидарного» с автором чтения. Раз Ахматова назвала строфу «Поэмы без героя» «ахматовской», значит, имела право.
Я выросла на Ахматовой, особенно на ее «Поэме без героя», которая в юности подталкивала меня к профессиональному росту. Повлиял на меня и созданный ею драматический образ красавицы-жертвы, находящейся в вечной войне с мужским полом, — воплощение идеи женщины с большой буквы. Но когда, уже с опытом мандельштамоведения и кузминистики, я приступила к профессиональным разборам ее текстов, мне стало в ее поэтическом мире и скучно, и душно, а созданная ею Идея Женщины показалась фейком — все-таки поэтесса прожила совсем не ту жизнь, которую столь ярко и драматично изобразила в поэзии. К тому же, как дитя перестройки, ценящее свободу, равенство, братство, я не была готова к коленнопреклоненному положению перед Ахматовой. Кузмин и, например, Мандельштам — те авторы, с которыми у меня уже выстроился диалог «на равных». Они не принижают роли читателя, не давят своим авторитетом, а, по словам Мандельштама, просто пишут стихи до востребования, бросая их нам как письмо, запечатанное в бутылке.
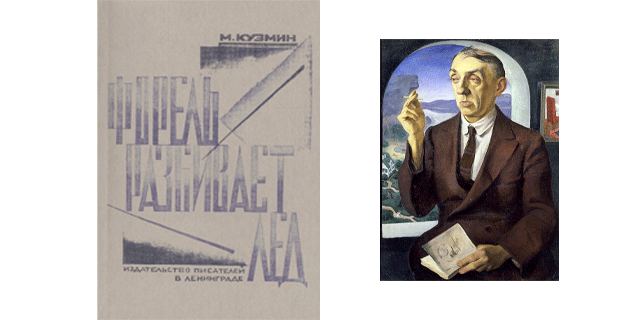
— А какие писатели и поэты повлияли на самого Кузмина больше всех? Кого он для себя выделял?
— Это неисчерпаемая тема. Кузмин столько всего прочитал, перевел, переработал в свое оригинальное творчество, что для профессионального осмысления потребовался бы цех специалистов — вроде мандельштамо- или набоковедческого. Ничем таким кузминистика, к сожалению, не располагает.
Кузмин читал на древнегреческом, латинском, французском, итальянском, английском, немецком языках, то есть знал Гомера, Платона; Апулея, Горация, Катулла; Флобера, Анатоля Франса, Пруста; Данте, Петрарку, Ариосто; Шекспира; Гёте, Гофмана в оригинале, интимно, а не в переводах, как большинство его современных читателей. Его русские влияния — это Пушкин, Толстой, Достоевский, а может быть и Чехов, последователей которого Кузмин высмеивал как заразившихся чеховской неврастенией.
Пока что я назвала авторов первого ряда, которыми в Серебряном веке кто только не вдохновлялся! Но Кузмин любил писателей из камерной ниши, которым в первый ряд выйти не довелось, но которые радовали знатоков и эстетов. Это, скажем, Анри де Ренье, Д’Аннунцио, Густав Майринк; из русской традиции — Лесков, которого Кузмин постоянно перечитывал. Мне, кстати, слышится и в прозе Кузмина, и в его речах особенный лесковский тон — мягкий, доброжелательный, вроде бы предельно уважительный по отношению к собеседнику, но в то же время со скрыто-ироническим ядом — показателем трезвого, умного отношения к миру и людям.
О лирике Серебряного века принято мыслить так: если из архивов ученые выяснили, о чем «они» — поэты и их адресаты — говорили, то открывается ее истинное содержание. Но Кузмин — тот случай, когда биографический субстрат вливается в непрекращающийся диалог с русской и мировой культурой. Иногда это бросается в глаза — когда Кузмин прямо называет имена своих любимцев, скажем, Апулея, Гёте, Пушкина, посвящает им стихи, стилизует под их манеру свое повествование. Но чаще у Кузмина такое обращение к мировой и русской культуре не на поверхности, а разлито в тексте. Кузмин ведь не позирует, как поэты-ученые Вяч. Иванов и Брюсов, в качестве эрудита. Мировая и русская культура — естественная среда его обитания — и, главное, тот алфавит, на котором он изъясняется. Если мы не считываем этого алфавита, хотя бы из-за того, что модернизм от нас заслонен, хотим мы того или нет, советской культурой, то мы с трудом можем понять, что в его текстах говорится.
Приведу в качестве примера стихотворение-манифест «Где слог найду, чтоб описать прогулку...», которым я занималась. После публикации дневников Кузмина за 1905 год, двое ученых (Н. А. Богомолов и Клаус Харер) указали на реальные обстоятельства, описанные в «Где слог найду...»: когда была прогулка, где, кто воспет в стихотворении и т. д. Были прокомментированы имена с культурными отсылками и опознана открытая цитата из «Моцарта и Сальери»: Откупори шампанского бутылку. Но столь же существенно, что «Где слог найду...» придерживается повествовательных схем из лучших образцов мировой культуры, от Гомера до «Евгения Онегина». Кузмин изобразил один день из своей жизни, чтобы проиллюстрировать девиз «carpe diem» — «срезай/лови день», брошенный Горацием. При этом он перенес акцент с собственно дня, т. е. реальности, на поэтический слог, которым о нем подобает писать, что как раз превращает «Где слог найду...» в манифест, кстати, повлиявший на программу акмеизма — и на стихи Ахматовой.
Кузмин обладал поразительным даром стилизатора. Он чувствовал Античность, Средневековье, Ренессанс, европейский XVIII век и еще ряд эпох так тонко, что легко писал в свойственной им стилистике. Высший пилотаж — «Подвиги Великого Александра», где избранная тема (жизнь и смерть античного Александра Македонского) дана в стилистике средневековой летописи.
— Кузмина по праву можно назвать одним из самых чувственных и тонких авторов, пишущих о любви. Какие еще темы, кроме любви, можно отнести к ключевым в его творчестве?
— Если есть выдающийся писатель, то у него имеется своя картина мира, а в этой картине мира намечаются свои тематические доминанты. О картине мира Кузмина пишется недостаточно, но вот что можно утверждать относительно прозы.
Серебряный век — это про фантазию и запредельность, это запрос на реальнейшее в противовес реальности, это целый веер жизнетворческих стратегий — и столь же обширный репертуар «больших идей». Кузмин не просто не был жизнетворцем, но, как адепт здравого смысла, трезвости, контакта с реальностью, он в своей прозе «с ключом» то и дело гладил Серебряный век против шерсти. Его художественная фантазия была направлена на создание таких сюжетов, в которых маги, пророки, выдумщики (и, конкретнее, Вячеслав Иванов, царившая на ивановской «башне» оккультистка Анна Рудольфовна Минцлова, Зинаида Гиппиус, Анна Ахматова, Велимир Хлебников) проходили через болезненный опыт провала претензий, таким образом узнавая, что такое реальность. Вот, например, в «Портрете с последствием» героиня возомнила себя больше, чем просто моделью и возлюбленной художника: его Музой, решающей за него, как она должна быть изображена на его портрете. А вот художник решает свою Музу ослушаться, и пара распадается. Какие обстоятельства к этому привели и кто скрывается за Музой — обо всем этом читатель может либо догадаться сам, либо справиться в моей книге «Зрелый модернизм: Кузмин, Мандельштам, Ахматова и другие».
Мужчины-чудаки — еще одна из типовых для Кузмина фигур, движущих сюжет в неожиданном направлении. На этом построено «Снежное озеро», кстати, с двумя героинями, выписанными под Анну Каренину.
Настоящая любовь в отличие от придуманной — типичная для прозы, но, впрочем, и поэзии тема Кузмина. Она получила множество реализаций, включая гендерные — в «Кушетке тети Сони».
О том, что Кузмину-читателю изумительно удавались стилизаторские вещи, я уже упоминала.
Некоторые сюжеты Кузмин выстраивал так, чтобы в игровой форме высказать свое отношение к русской прозе. «Кушетка тети Сони» и «„Лекция Достоевского“» поразительны среди прочего такого рода откровениями.
Кузмин затронул множество экзистенциальных, психологических и — временами — моральных вопросов, с которыми мы все имеем дело. Наконец, в его романах очень чувствуется дух времени. Скажем, легендарную «Бродячую собаку» можно ясно себе представить, погрузившись в роман «Плавающие-путешествующие».
— Цикл «Форель разбивает лед», ставший, по оценке последовательницы Кузмина Елены Шварц, его «шедевром и, может быть, оправданием жизни», традиционно привлекает повышенное внимание исследователей. Однако научный консенсус, в каком ключе его понимать, так и не был достигнут. Как все же, на ваш взгляд, следует читать этот авангардистский цикл?
— «Форелью» восхищались самые разные писатели — достаточно назвать Александра Кушнера и Эдуарда Лимонова. Но вот что удивительно: «Форель» настолько герметична и настолько же богата смыслами, что поворачивается к разным читателям разными гранями. Для Александра Кушнера это, например, огромный репертуар сменяющих друг друга интонаций.
Я сейчас заканчиваю монографию о «Форели», так что общая картина того, как она воспринимается, мне ясна. В 1976 году появилась во всех отношениях пионерская статья Джона Малмстада и Геннадия Шмакова, где совершенно правильно, но в предельно общих формулировках, было считано содержание «Форели». Цикл — о том, что Кузмину было дороже всего на свете: счастье с бисексуальным партнером, который норовил уйти от него к женщине. Большинство следующих работ — а это примерно три десятка — переключили обсуждение цикла на другие материи. Тут и разнообразные культурные изыскания, которые можно только приветствовать. Но тут и вчитывание посторонних, по меркам современной российской действительности — безопасных, ибо игнорирующих гомосексуальную тематическую доминанту, смыслов. Если исходить из такого рода трактовок, то получается, что в «Форели» Кузмин занят сразу и гностицизмом, и дружбой-враждой с Вяч. Ивановым, и даже любовным треугольником «Пушкин — Наталья Николаевна — Дантес».
Моя серия статей, а теперь и книжная рукопись, озаглавлены «Диалектика любви» и являются попыткой услышать то авторское послание, которое в свой шедевр заложил сам Кузмин. Мужскому союзу противостоит гетеросексуальный союз, изображенный с тщательно скрытым мизогинизмом. Буквально все сюжетные и художественные средства брошены на то, чтобы персонажи-мужчины, пройдя каждый через свои испытания, соединились в пару.
Авангардность — или, если угодно, модернистскость — рассказываемой Кузминым истории поражает воображение. История разбита на эпизоды, каждый из них оркестрован на свой манер, как если бы перед нами были главы «Улисса». В этой оркестровке принимают участие музыка и музыкальные ассоциации. Скажем, форель, вынесенная в заглавие цикла и становящаяся его лейтмотивом, восходит к одноименным произведениям Шуберта (о чем много написано).
Столь же существенно, что форель — золотая рыбка цикла, исполняющая желания лирического героя, за которым скрывается фигура автора. Является ли цикл оправданием жизни Кузмина, я не знаю. Но знаю, что она написана кровью его сердечных ран — и потому так сильно воздействует на тех, кто готов открыться ей навстречу, как открылась упомянутая вами Елена Шварц.
 Михаил Кузмин и Юрий Юркун в своей квартире на улице Рылеева (бывшей Спасской). 1935–1936 гг. Источник
Михаил Кузмин и Юрий Юркун в своей квартире на улице Рылеева (бывшей Спасской). 1935–1936 гг. Источник
— Насколько хорошо на сегодняшний день изучен Кузмин? Много ли еще осталось пробелов в летописи его жизни и творчества?
— Творчество даже и опубликовано не полностью — что уж говорить о его изучении! Есть пробелы и в наших знаниях о биографии Кузмина. Архивы писателя трижды арестовывались, изрядная их часть то ли бесследно исчезла, то ли хранится в закрытых для ученых учреждениях.
Но поделюсь радостным событием, вселяющим надежду на возможность дальнейших находок. В конце жизни Кузмин переводил «Сонеты» Шекспира, и эта его работа до самого последнего времени считалась утраченной. Недавно С. А. Венгеров обнаружил рукопись Кузмина с переводом 89 сонетов. Кузмин успел перевести по крайней мере 110 сонетов, но и 89 — это много! Из этой рукописи летом в печати появились два мини-цикла: так называемый прокреационный (1–17) и вокруг Поэта-соперника (75–86). Публикацию осуществил шекспировед И. О. Шайтанов. А осенью, буквально на днях, вышла и вся подборка в виде книги — усилиями Венгерова; ее можно прочитать на сайте Библиохроника.рф.
Пользуясь случаем, призываю в наши кузминистские ряды литературоведов, лингвистов, музыковедов, культурологов. Кузмин — не престижный автор, увы, но зато нас всех ожидают поразительные открытия.
— Несмотря на то что Кузмин был человеком многих талантов (тонко чувствующий поэт, востребованный драматург, самобытный прозаик, талантливый композитор, въедливый критик, знающий переводчик...), для большинства его имя все же синонимично понятию «еще один представитель Серебряного века». Как вы думаете, в чем причина этого?
— Одну причину назвал проницательный В. Ф. Марков, кстати, до сих пор не упомянутый основатель кузминистики. Кузмин не примыкал ни к каким группам или течениям (эфемерная группа эмоционалистов не в счет), и, следовательно, его творчество не ассоциируется ни с каким «-измом», нет готовой оптики, через которую на него можно смотреть, как нет и готового языка, на котором его можно обсуждать. Кузминистика — для тех, кто готов думать о Кузмине самостоятельно, без подсказок с той или иной стороны, и нащупывать решения методом проб и ошибок.
Подступиться к Кузмину трудно еще и потому, что надо учитывать весьма нетривиальные культурные координаты, в которых протекали его жизнь и творчество. Поскольку я вплотную занимаюсь «Форелью», то мне стала открываться та гейская культура — «Пир» Платона, «Сонеты» Шекспира, «Портрет мистера W.H.» Уайльда и так далее, — которой она пронизана насквозь. Пока читатель не расслышит диалога, который в «Форели» ведется с перечисленными авторитетами, он вряд ли сможет оценить художественные и идеологические усилия Кузмина, как, впрочем, и его смелое новаторство в рамках названной традиции.
Советская культура и Ахматова «отменили» Кузмина, перестройка восстановила его в правах, но как-то частично. Если Платонов, Булгаков или Бабель вернулись из исторического небытия и заняли подобающее им место в литературном каноне, то Кузмин, очевидно, нет. Мое объяснение этому феномену состоит в том, что российский читатель как-то не дорос до него. Кузмин — взрослый, трезвый, не романтичный писатель, чтобы быть востребованным.
Не знаю, ждет ли Кузмина будущее, достойное сделанного им вклада. Но даже если нет, будем помнить, что и его тексты, и его биография содержат рецепт того, как стать свободным, смелым, любящим человеком, реализующим свое право на счастье.