«Америка должна открыть для себя марксизм Лифшица, чтобы обрести почву под ногами»
Интервью с Виктором Арслановым и Алексеем Лагуревым
Алексей Лагурев, Виктор Арсланов. Михаил Лифшиц. М.: Умозрение, 2021
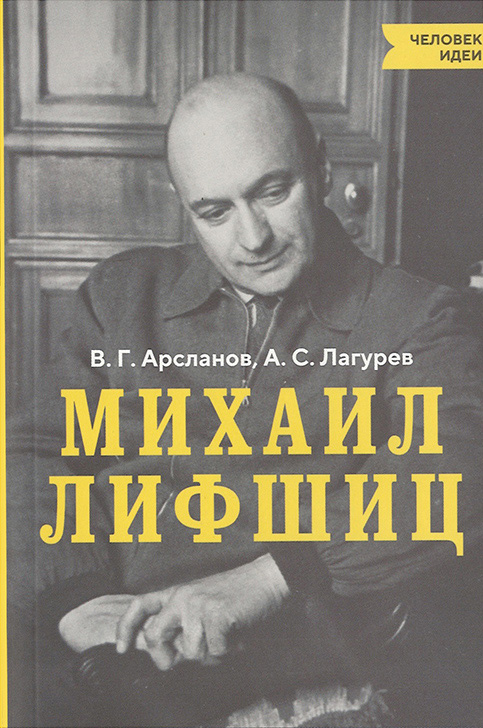 Константин Митрошенков: Виктор Григорьевич, вы знали Михаила Лифшица лично и долгое время работали с ним. Как вы познакомились?
Константин Митрошенков: Виктор Григорьевич, вы знали Михаила Лифшица лично и долгое время работали с ним. Как вы познакомились?
Виктор Арсланов: В 1968 году в газете «Литературная Россия» я прочитал заметку литературоведа Александра Дымшица, суть которой сводилась к тому, что некий Лифшиц опубликовал в «Вопросах философии» совершенно безобразный, хулиганский и ернический текст. Речь шла о памфлете «Либерализм и демократия». Я побежал в научную библиотеку Барнаула, где тогда жил, чтобы найти тот выпуск журнала. Памфлет меня настолько взволновал, что я тут же написал письмо Михаилу Александровичу. До этого я ни разу не писал письма известным людям. Дней через шесть я неожиданно для себя получил ответ — так завязалась наша переписка. Потом я работал с Михаилом Александровичем в Академии художеств, в отделе истории эстетических учений.
КМ: До этого вам не доводилось читать тексты Лифшица?
ВА: Тут нужно рассказать предысторию. В школьные годы я был поклонником модернизма и авангарда. У меня был дядя, образованный человек, который беседовал со мной на эти темы. Однажды он сказал: «Вот ты считаешь, что кругом все пишут глупости, но даже в журнале „Коммунист“ попадаются умные вещи». Я ему говорю: «Такого быть не может». А он в ответ: «Прочти в „Коммунисте“ статью Лифшица „Феноменология консервной банки“». Статья меня поразила. Не только в «Коммунисте», но и в любом другом, более приличном журнале ничего подобного тогда прочитать было нельзя. Казалось, что ее написал человек из другой страны или из другой эпохи, кто-то вроде оживших Вольтера или Дидро. Тогда я сторонником Лифшица не стал. Но фамилию запомнил, и поэтому, когда мне на глаза попалась та заметка Дымшица, я сразу решил разыскать памфлет Михаила Александровича.
МК: И в какой-то момент он переубедил вас насчет авангарда?
ВА: Я долго с ним не соглашался. Наша переписка началась, когда мне был двадцать один год. Я писал Михаилу Александровичу, что разделяю и поддерживаю его общественную позицию, но не согласен с критикой авангарда. Я писал ему: «Ну а как же Кафка? Это же великий писатель». Он отвечал: «На Кафку я не покушаюсь, о модернизме поговорить еще успеем». Как ни странно, я согласился с Михаилом Александровичем только после чтения Лукача. Его аргументация оказалась для меня более доступной для понимания, потому что была более «школьной»: все выстраивалось последовательно, шаг за шагом. Первая книга Лукача, которую смог прочитать еще в студенческие годы, была «Немецкие реалисты XIX века», изданная в ГДР, ее случайно купил в букинистическом магазине г. Барнаула, она произвела большое впечатление. Потом были его «Разрушение разума» и многотомная «Эстетика», они сыграли решающую роль в перемене моего отношения и к модернизму, и к искусству вообще. Лишь познакомившись с архивом Лифшица (ставшим доступным для систематического изучения после смерти его вдовы в 1994 г.), смог оценить глубину его онтогносеологии и «теории тождеств».
КМ: Алексей, а вы как познакомились с текстами Лифшица?
Алексей Лагурев: Я пришел к Лифшицу через интерес сначала к философии в целом, а затем к марксистской философии в частности. Когда я поступил в университет, то уже находился под влиянием левых идей, интересовался историей Советского Союза. Со временем я пришел к марксизму и уже внутри него начал искать ответ на вопрос: что такое истина? Я читал Маркса, Энгельса, Беньямина, модного тогда Жижека, Альтюссера, Балибара, Рансьера и многих других. Потом я узнал о ранней книжке Лукача «История и классовое сознание», и она меня поразила. Ее ортодоксальный пафос был очень близок мне. Как мне кажется, Лукач в этой работе стремился показать связь марксизма со всей предыдущей философской традицией, в частности, с Гегелем, и это тоже сыграло свою роль. С того момента я начал искать способ соединить свое раннее увлечение классикой философской мысли с марксизмом.
Я стал дальше читать Лукача и всю доступную литературу о нем, затем открыл для себя Ильенкова, и он перевернул мой взгляд на марксизм. Я старался всячески пропагандировать его, старался погрузиться в дух классического марксизма, который мы встречаем в работах Ильенкова. Знакомясь со всей этой литературой, я наткнулся на статью Лифшица, которая называлась «Об идеальном и реальном», и как будто бы попал в совершенно иную интеллектуальную атмосферу. Лифшиц критиковал Ильенкова, и его аргументы были настолько убедительными, что пришлось признать его правоту. Так и началось мое постепенное погружение в тексты Михаила Александровича.
КМ: В начале книги вы пишете: «Тот, кто сегодня возьмется за такие исследования [о Лифшице], едва ли может рассчитывать на получение премий, наград, даже защита диссертации о Лифшице будет для него, как показывает опыт, затруднительна». Что за история с защитой?
ВА: Имеется в виду опыт моих аспирантов. Некоторые из них писали о Лифшице, и на их пути, бывало, возникало немало препятствий, вплоть до угроз со стороны начальства. Когда ко мне пару лет тому назад после лекции подошла одна студентка и сказала, что хочет писать дипломную работу о Лифшице, я посоветовал ей взять другую тему.
КМ: Алексей, вы недавно защитили диссертацию о Лифшице. У вас возникали подобные трудности?
АЛ: Формальных препятствий мне никто не чинил, но эксцессы тоже случались. Я решил писать диплом о Лифшице, когда учился на третьем курсе бакалавриата. Мой научный руководитель полностью поддерживал мое увлечение Лифшицем, но по личным причинам был вынужден уйти из университета. Мне назначили другого руководителя, заведующего кафедрой, и он оказался учеником советского философа Моисея Кагана.
Каган в свое время стал персонажем памфлета Лифшица «Бессистемный подход». С тех пор он и его ближайшие ученики очень негативно относились к Михаилу Александровичу. Если не ошибаюсь, Каган в автобиографии назвал Лифшица «инквизитором от марксизма-ленинизма».
Когда я попал к ученику Кагана, мне сразу объявили, что нужно поменять тему, потому как заниматься этим подлым человеком — своего рода преступление против науки. Мне пообещали скандал на защите, если я не передумаю. В итоге руководитель отказался от меня и предупредил, что у меня будут проблемы. Но в итоге защита прошла нормально, без административных эксцессов.
Иногда бывают любопытные совпадения. Лет семь назад я нашел на «Авито» книгу Лифшица «Кризис безобразия», изданную по-немецки. Я поехал в какое-то место на окраине города и там зашел в домик, где меня встретил человек, скажем так, уставшего вида. Я хотел побыстрее уйти, но в итоге мы разговорились. Его очень заинтересовало, почему я решил купить книгу никому не нужного мракобеса Лифшица. В результате выяснилось, что продавец — тоже один из учеников Кагана и даже редактировал его воспоминания.
КМ: Перейдем к самому Лифшицу. Пожалуй, самый яркий период его жизни — 1930-е годы, когда Михаил Александрович с единомышленниками группировались вокруг журнала «Литературный критик». Изначально это было довольно официозное издание под редакцией Павла Юдина, еще одного одиозного философа. Как Лифшиц там оказался?
ВА: Кажется, где-то в одной из архивных заметок Лифшиц назвал «Литературный критик» и «течение» [«течением» 1930-х называют кружок единомышленников Лифшица и Лукача, образовавшийся вокруг упомянутого выше журнала. — Прим. ред.] «вороньей слободкой». Это коммунальная квартира, в которой жил высеченный поэт Васисуалий Лоханкин из «Золотого теленка». В «Литературном критике» тоже собрались самые разные люди, поэтому нельзя сказать, что его страницы были заполнены работами «течения», хотя оно и определяло наиболее интересную его сторону.
Сам Лифшиц вспоминал, что в конце 1920-х годов у него сложился круг молодых друзей, которые называли себя «Озерной школой». Вероятно, знакомство с Еленой Усиевич и Игорем Сацем тоже сыграло свою роль. Они сблизились в конце 1920-х или в начале 1930-х годов.
КМ: «Озерная школа» — довольно интересный сюжет. Из этого круга вышли люди с очень непохожими жизненными траекториями: например, литературовед Леонид Пинский, ставший позднее диссидентом, и Владимир Кеменов, сделавший успешную аппаратную карьеру.
ВА: Пинского я не знал, а вот с Кеменовым был знаком хорошо. Я работал с Михаилом Александровичем в Академии художеств — Кеменов был ее вице-президентом. Когда решался вопрос о моем трудоустройстве, я пришел к нему на прием. Помню мое первое впечатление: крупный сталинский чиновник (Лифшиц называл его в шутку «мой друг-бюрократ»), человек образованный, без сомнения — значительный. В определенный момент он сыграл не очень приятную роль в жизни Лифшица. Как говорил Михаил Александрович, было два типа сталинских бюрократов: один — совершенно невежественные люди, которые брали нахрапом; второй — энергичные и умные люди, которые делали дело, хоть и были склонны к интригам и закулисным играм. Кеменов относился ко второму типу.
КМ: У Кеменова был конфликт с Лифшицем?
ВА: Да, в конце 1940-х годов. Константин Юон, директор Института теории и истории изобразительных искусств, хотел взять Лифшица на работу, а Кеменов, уже тогда крупный чиновник в области культуры, воспрепятствовал этому. Лифшиц остался безработным.
Но в тот момент, когда я познакомился с Кеменовым, он способствовал тому, чтобы Лифшиц буквально из небытия вернулся в сферу официальной науки. Только в 1956 году Михаил Александрович получил степень кандидата филологических наук, хотя диссертацию защитил еще в 1948 году. До конца 1950-х годов и даже в начале 1960-х годов Лифшиц не мог брать аспирантов, а если бы мог, то они бы все равно не смогли защитить свои работы. А вот после того, как Лифшиц опубликовал статью «Почему я не модернист?», Кеменов стал активно способствовать тому, чтобы узаконить его в нашей науке.
Я часто говорил о Лифшице с разными людьми, еще когда был студентом. Мои преподаватели отвечали: «Да, Лифшиц, возможно, талантливый человек, но он приспособленец». Представляете? Лифшиц — талантливый приспособленец! Если бы он был приспособленцем, то сделал бы в 1930-е годы успешную карьеру. Лифшица считали приспособленцем потому, что он выступил против модернизма. Государство громило модернистов, и Лифшиц принял участие в избиении лежачего. Только негодяй мог сделать такое. Такой логикой руководствовались эти люди, имевшие очень поверхностное представление о Лифшице.
На самом деле Михаил Александрович долго думал, прежде чем опубликовать памфлет «Почему я не модернист?». Он понимал, что его будут обвинять в приспособленчестве, что многие воспользуются выступлением в защиту реализма против авангарда, чтобы объявить его старым сталинским идеологом. Лифшиц размышлял о том, стоит ли ему рисковать репутацией (все эти сомнения отражены в небольшом его тексте «Разговор с чертом»). В итоге он все же решился. Михаил Александрович любил вспоминать старую христианскую максиму: «Нет спасения в спасении души». Тот, кто слишком заботится о спасении души, не спасет свою душу. Думаю, он был прав.
Лифшиц не бил модернизм, когда тот действительно был лежачим. Например, в лекциях, прочитанных в ИФЛИ, Лифшиц не объявлял себя сторонником авангарда, но подчеркивал его сильные стороны, показывал, что это не просто маразм. А во второй половине 1960-х годов он увидел изменившиеся настроения интеллигенции и широких слоев общества, которые вели к победе либерализма в политике и экономике.
 Твардовский и Лифшиц в редакции «Нового мира», 1965
Твардовский и Лифшиц в редакции «Нового мира», 1965КМ: Вы затронули проблему взаимоотношений Лифшица с властью: в 1930-е годы он и его единомышленники провели кампанию против «вульгарной социологии» и вышли из нее победителями. Они пользовались поддержкой сверху?
ВА: Общеизвестно, что Лифшиц общался с Луначарским. Его также поддерживал Юдин, уже в период «Литературного критика». Если память мне не изменяет, то Михаил Александрович рассказывал, что Сталин мог прислать Юдину ящик вина в подарок — при этом в конце 1930-х годов человека вполне могли арестовать даже после такого подарка.
Что касается отношения к Юдину, то здесь интересны маргиналии, оставленные Лифшицем на полях книги Ильенкова «Диалектика абстрактного и конкретного». Ильенков цитирует там размышления Мао Цзедуна о диалектике, а Михаил Александрович иронически приписывает рядом на полях: «творчество Юдина». Юдин работал в Китае — Михаил Александрович, вероятно, имел в виду, что собрание сочинений Мао Цзедуна было во многом результатом его деятельности.
Конечно, Лифшиц понимал степень философской одаренности Юдина, но среди сталинских бюрократов были разные люди. Находились те, кто мог поддерживать достойные инициативы. Наверное, Юдин относился к их числу. В какой-то степени Юдин поддерживал Михаила Александровича и после войны, в ситуации с защитой диссертации. Есть свидетельства о том, что он не давал Михаилу Александровичу окончательно упасть на дно.
Сергей Николаевич Земляной и в печати, и в ходе нашей очной дискуссии называл Лифшица догматиком. Он говорил, что теория отражения Лифшица абсолютно догматическая, и что о нем можно судить по его друзьям, одним из которых был Юдин — сталинский бюрократ. Но мне кажется, что это не очень хороший ход. Кто из нас святой человек? Почему мы не имеем права опираться на то, на что можем опереться? В иной ситуации люди хватаются за соломинку. Достаточно почитать книгу Булгакова о Мольере, где рассказывается о взаимоотношениях драматурга с Людовиком XIV.
КМ: То есть для Лифшица это был тактический союз?
ВА: Да, он размышлял, вероятно, так: я улыбаюсь, читая тексты Юдина, но почему я должен порвать с ним личные отношения и отказаться от его поддержки? Если бы компромисс с Юдиным привел к тому, что Лифшиц поменял бы свои взгляды, это был бы уже другой поворот. Лифшиц мог идти на временные компромиссы с самыми разными людьми ради главного: чтобы сохранить возможность защищать свои взгляды и не изменять им.
АЛ: Мне кажется, Михаил Александрович по-человечески довольно неплохо относился к Юдину, он разделял в нем человека и бюрократа. В свое время в РГАЛИ я читал письмо, подписанное Лифшицем, Усиевич и Сацем и адресованное Василию Гроссману — письмо по поводу его романа «Жизнь и судьба», где Юдин выведен в качестве одного из персонажей. В письме была такая фраза: «Пользоваться литературным произведением, чтобы незаслуженно оскорбить хорошего человека, — это дурной поступок».
Михаил Александровича понимал, что Юдин сыграл в 1930-е годы не только отрицательную, но и положительную роль. Увидев однажды какое-то критическое высказывание в адрес Юдина, он заметил: а разве не при непосредственном участии Юдина в 1930-е годы был реабилитирован Гегель и вышло его собрание сочинений? Мне кажется, что так Лифшиц относился и ко всей официальной, магистральной стороне 1930-х годов. В нашей книге опубликованы заметки из архивной папки Лифшица, где он говорит о том, что нужно до предела извлечь все те возможности, что были заключены в повороте сталинской политики 1930-х годов. Там же есть позднее, 1980-х годов, письмо литературоведу Адриану Македонову, в котором Лифшиц рассказывает, что в свое время в «Правде» уже была готова к выпуску статья, громившая его как идеалиста. И только благодаря Сталину, считавшему, что вульгарную социологию необходимо разгромить, эта статья так и не была опубликована. Уже в поздние годы Лифшиц подчеркивал, что сталинская политика, о губительности которой он знал как никто другой, была выражением более широкого народного движения. Он отмечал, что сталинская революция «сверху» рубежа 1920–1930-х годов имела важное значение. Например, именно она сделала возможной реабилитацию классики.
В своих заметках по поводу рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Лифшиц писал, что довольно наивно полагать, будто такие серьезные культурные сдвиги, как критика культа личности, могут происходить без участия простых людей вроде того же Ивана Денисовича. То лучшее, что было в 1930-е годы и на что Сталин, по мнению Лифшица, не сумел опереться, связано прежде всего с порывом миллионов людей к освоению классической культуры, созданием промышленности, движением к коммунистическому обществу.
ВА: Хочу сказать еще два слова о вульгарной социологии. То, что происходит сейчас в Америке, крушение памятников, подъем вроде как левого освободительного движения — типичная вульгарная социология. Потому что вульгарная социология — это стремление стричь всех под одну гребенку. Пушкин принадлежал к дворянству? Все, вопрос закрыт. В 1920-е годы довольно неглупые авторы писали, что «Капитанская дочка» — произведение, чуждое пролетариату, и его нужно запретить. В Америке сейчас происходит именно это. А в Советском Союзе нашлись интеллектуальные силы, которые сумели противостоять этой уравнительной стихии на теоретическом уровне. Насколько я знаю, сейчас в Америке нет подобных сил, и если она выйдет из нынешнего духовного кризиса, то только подобным образом. Условно говоря, Америка должна открыть для себя марксизм Лифшица, чтобы обрести почву под ногами.
АЛ: Вспоминается одна заметка Лифшица о провинциализме западной мысли. Мы смотрим на Запад и пытаемся угнаться за их интеллектуальными тенденциями, которые во многом возвращаются к тому, что было у нас в 1920-е годы, к тем же формалистам. При этом идеи Лифшица и «течения» остаются неузнанными и непонятыми. Взгляд на советскую мысль 1930-х годов как на нечто отсталое и не заслуживающее внимания — это и есть один из важнейших симптомов провинциализма западной мысли. Лифшиц отмечал, что она в своих наиболее передовых явлениях, в хорошо известных ему структурализме и постструктурализме, повторяла тот этап, который был пройден в Советском Союзе на стыке 1920–1930-х годов.
КМ: Почему в таком случае Лифшиц, в отличие от тех же формалистов, не востребован на Западе, и даже Лукач не стал связующим мостиком между ним и зарубежной аудиторией?
АЛ: Думаю, модернистская философия, которая по сей день господствует на Западе, воспринимает в Лукаче прежде всего то, что не связывает его с Лифшицем, а, наоборот, разделяет их. Поэтому наибольшей популярностью пользуется ранний Лукач. Даже в известном курсе лекций Люсьена Гольдмана, посвященном сходствам между философиями Лукача и Хайдеггера, мы не найдем ни слова о Лукаче позднего периода.
Лифшиц в своих воспоминаниях говорит, что Лукач был лучшим из того, что могла дать западная антикапиталистическая интеллигенция. Он отказался от блестящей карьеры, денег и социального статуса, а в Москве примкнул к огромному социальному движению, заряженному импульсом Октябрьской революции. Во многом это произошло потому, что он сблизился с кругом Лифшица, который открыл Лукачу внутреннюю интеллектуальную сторону нашего социального движения. Это отличает его от Беньямина, который в конце 1920-х годов также приезжал в Москву, но ничего подобного не нашел.
Западная мысль способна принять только то, что ей внутренне близко. Поздний Лукач ей не близок: в лучшем случае предпринимаются попытки пересобрать его. Лет шесть назад у нас опубликовали первую главу «Исторического романа» Лукача и сопроводили ее статьей Перри Андерсона. Однако между этими текстами мало общего — по сути, Андерсон занимается пересборкой теории романа, в том числе лукачевской.
Есть другой аспект (Лифшиц тоже его подчеркивал), связанный с восприятием позднего Лукача. Такие работы как «Молодой Гегель», популярная книжка «Гете и его время», состоящая из статей 1930-х годов, книга «Разрушение разума» того же периода, вернули Лукачу массовую популярность на Западе после войны. Они переправили на Запад те идеи «течения», которые вобрал в себя Лукач и которые вывели его из глубочайшего кризиса. Часть этих идей вошла в фундамент западной мысли — прежде всего, представление о Гегеле как о мыслителе, связанном с Французской революцией и политической экономией своего времени.
Если резюмировать, то Лифшиц не может быть популярен на Западе в своем собственном виде, как не может быть популярен и Лукач 1930-х годов. Пока на Западе не появится социальное движение, нуждающееся в идеях Лифшица, то есть массовое демократическое движение, он будет оставаться неизвестным и непонятым.
КМ: Я прочитал в вашей книге, что Лифшиц в 1970-е годы подумывал о переезде на Запад. Для меня это стало откровением.
ВА: Вспоминаю разговор с Лифшицем, который состоялся у нас в конце 1970-х или начале 1980-х годов. Михаил Александрович говорил, что, возможно, придется уехать, и все зависит от того, как будут развиваться события в России. И тут же добавил: «Ну а что я там буду делать? Вещать на „Радио Свобода“*СМИ признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией?» Конечно, ему бы дали такую возможность, если бы он уехал и выступил с критикой брежневского режима.
Лифшиц тогда говорил: «Только дурачки могут думать, что у нас в СССР сейчас социализм, у нас — власть боярства, секретарей обкомов КПСС, у которых руки развязаны еще со времен Хрущева». С такими заявлениями на Западе ему бы сразу дали трибуну, но неизбежно подверстали бы к своей игре. Его голос использовали бы так же, как голоса Солженицына, Зиновьева, — для уничтожения остатков того, что еще оставалось от Октябрьской революции. Лифшиц не хотел в этом участвовать.
КМ: А чего опасался Лифшиц в СССР?
ВА: Он предвидел то, что фактически произошло: на спинах либералов, как нередко бывало в истории, придет к власти черносотенец (или либерал-черносотенец, появившийся в наши дни). В целом Михаил Александрович опасался «реставрации Бурбонов», как он сам это называл. Он увидел начало этого процесса еще в 1960-е годы и хотел воспрепятствовать ему. Между прочим, определенные надежды он связывал с Андроповым, хотя не имел иллюзий на его счет. Когда Андропов стал генсеком, Лифшиц полагал, что Андропов всерьез собирается почистить авгиевы конюшни брежневского «развитого социализма», нанести удар по той мафии (не только торговой, не только по «теневому рынку», но и, так сказать, по мафии идеологической, интеллектуальной, прочно сидящей уже и в обкомах, и в ЦК КПСС, в газетах, журналах, научных учреждениях), которая ныне господствует. «Только, Витя, — говорил он при этом, — надо не попасть под колесо», а что это такое Михаил Александрович знал по опыту и 1937-го, и 1949-го. Он считал, что Андропов проведет в экономике такие же реформы, как Янош Кадар в Венгрии. Хорошо помню, Михаил Александрович очень надеялся в это время, что его книга «В мире эстетики», книга памфлетов против «идеологической мафии» позднего брежневского режима поможет мыслящим людям понять, из каких идей растет то, что ныне характеризуется (между прочим, и в лекциях по экономике в Йеле, и в лекциях лауреата Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглица) — бандитским, гангстерским капитализмом современной России, погубившем те производительные силы, которые еще оставались в СССР, образованных учителей, врачей, инженеров, ученых... Увы, этой книге, уже готовой выйти в свет в 1982 г. или начале 1983 г., были поставлены столь прочные преграды, что она смогла быть опубликованной лишь на первой волне перестройки в 1985 г., когда стали печатать ранее отклоненные книги, лежавшие в портфеле издательств. Михаил Александрович очень переживал по этому поводу, но прибавлял: «Ничего — не первая зима на волка».
КМ: В заключение я бы хотел поговорить об архиве Лифшица. Какая его часть уже опубликована? Планируете ли вы в ближайшее время издавать что-то новое?
ВА: Опубликована может быть десятая, может быть, двадцатая часть того, что должно быть опубликовано, что имеет самую злободневную научную ценность. Нам еще предстоит громадная работа.
АЛ: Прежде всего мы работаем над публикацией писем Лифшица. Письма и лекции — это, возможно, одна из наиболее интересных и важных составляющих его наследия. Еще в архиве сохранилось множество набросков и готовых статей, которые в свое время не увидели свет. Есть тематические папки, штук восемьсот.
Лекции особенно важны потому, что без них невозможно в полной мере понять идеи Лифшица и «течения» 1930-х годов. Их слушали студенты ИФЛИ, которые вдохновлялись «течением» и поддерживали его. В значительной массе эти люди погибли в годы Великой Отечественной войны, и это стало большой интеллектуальной катастрофой. Лекции 1930-х годов — неизвестная интеллектуальная составляющая того периода, в них мысль Лифшица получила более свободное выражение, была избавлена от формальностей, которые приходилось соблюдать в печати.
Что касается писем, то сейчас мы работаем над публикацией переписки Лифшица с Георгием Фридлендером, его учеником и специалистом по Достоевскому. Это огромная и очень содержательная переписка, она началась в середине 1930-х годов и продолжалась до самой смерти Лифшица в 1983 году. В ней отразилась не только жизнь страны, но и развитие теоретической мысли Михаила Александровича.
Еще одна актуальная задача — публикация переписки с другими представителями «течения». Сюда входит переписка Лифшица с Владимиром Грибом, еще одним его учеником, с которым они познакомились еще в 1920-е годы; обширная переписка с Игорем Сацем и Еленой Усиевич; переписка Лукача с Сацем и Усиевич. В свое время мне удалось получить отсканированные копии писем Лукача, хранившиеся в его архиве в Будапеште. Сейчас он закрыт, а все рукописи из музея-квартиры Лукача переданы в венгерскую Академию наук. Надеюсь, в обозримом будущем нам удастся собрать и издать корпус переписки «течения».
Конечно, Лифшиц переписывался не только с известными людьми — ему часто писали и самые обычные люди, какие-нибудь учителя физкультуры из провинциальных городов. Мне кажется, для него были очень важны письма простых людей, которые искренне поддерживали его — скорее в борьбе против разложения советской действительности, чем в борьбе с модернизмом. Представьте себе, что современному властителю дум напишет какой-нибудь старичок из грузинского села. Станет ли он отвечать ему? Думаю, даже не заметит письма. А Лифшиц не просто отвечал таким людям — он вел с ними диалог на равных. В этой связи поразительным может показаться то, что в переписке с самыми обыкновенными, подчас провинциальными корреспондентами, далекими от всякой цеховой философии, Лифшиц излагает одни из наиболее сложных, основополагающих своих идей. Для Лифшица и представителей «течения» культ интеллектуализма был неприемлем.
Авторы книги выражают благодарность всему коллективу «Архива Мих. Лифшица» и специально А. П. Ботвину, а также издательству «Умозрение» и его главному редактору Ю. Е. Губницыну.