Золотая ложка и полотенец
Знакомство с лонг-листом премии «Национальный бестселлер»
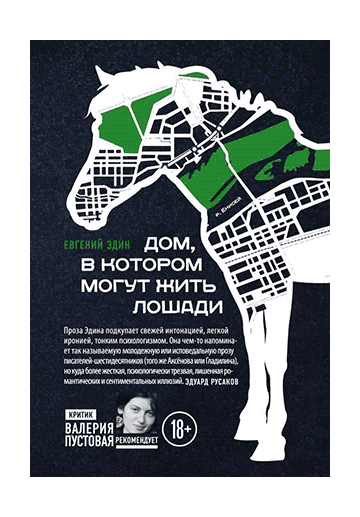 Евгений Эдин. Дом, в котором могут жить лошади. М.: Эксмо, 2017
Евгений Эдин. Дом, в котором могут жить лошади. М.: Эксмо, 2017
Вот как устроена реалистическая проза Евгения Эдина: он и она — меня всегда смущает отсутствие имен, но автор, безусловно, имеет на это право — приходят к ней, стаскивают друг с друга одежду, целуясь в дверях. Скидывают с дивана плюшевые игрушки ее сына, который сейчас в секции. Она идет в ванную. А он смотрит на плюшевого медведя, вспоминает, как подарил такого же жене. С женой в последнее время все сложнее, детей не предвидится, а новые ощущения необходимы. И вот он обаял сослуживицу на корпоративе. Потом в ванную идет он. И уже понятно, что все напрасно и ничего не будет. Она кричит ему, чтобы вытерся синим полотенцем.
Они все еще пытаются продолжить начатое на диване, уже свободном от плюшевых игрушек сына. И тут сын звонит в дверь — потянул связки, ушел домой с тренировки раньше. И героиня кричит сыну в ванную — там для тебя зеленый полотенец!
А герой уезжает из окраинного района на автобусе к себе в центр. Думает, что она обиделась, потому что он недостаточно тепло с ней простился. Хотя, чего тут, так глупо получилось. И так далее. Вроде бы совсем просто. Если бы не возглас героини, обращенный к сыну, — «зеленый полотенец»!
Автор совершенно сознательно педалирует это просторечие — оно знак некоего внутреннего мира героини, частью которого никогда не станет герой. У них в доме принято говорить «полотенец». И это не раздражает, а наоборот вызывает зависть — там есть какая-то своя устоявшаяся жизнь, со своими приметами, со своими нюансами, с тонкими гранями, видными только тем, кто в эту жизнь вовлечен.
Вот о таком мире пишет Евгений Эдин — все, кажется, ясно, знакомо и даже немного пошло. Быт и шаблонные отношения. Но в этих отношениях есть непременно то, что отделяет их от всех других, описанных и пережитых. Заглавная повесть «Дом, где могут жить лошади» рассказывает о молодой паре, Германе и Кристине, которые живут в крупном городе на берегу Енисея, учатся, ищут квартиру, гуляют и шутят. Ее родители живут в Америке, его мать работает в администрации города. Но есть еще его отец — он давно ушел из семьи, и здесь все примерно как у всех.
Только его отец — двойник. Не чей-то конкретный, а двойник вообще. Он живет, копируя кого угодно. Не изображая, не пародируя, а именно становясь образом — Боярского, Ефремова. Ему тесно среди жизни, заведенной раз и навсегда. И в этом его привлекательность. При этом у отца есть и приличная работа: он чинит телевизоры, которые, понятное дело, окно в мир иллюзий.
Отец пытается исполнить обещания, которые дал сыну в детстве. Покупает лошадей и, кажется, даже дом. Дом, в котором могут жить лошади. Могут, но не живут и не будут. Потому что поздно и не нужно. И мир расслаивается на представления, ожидания и туповатую реальность, выстроенную коллективным прагматичным разумом.
Сын отца не ненавидит, а не может полюбить. И это важнейший нюанс — тот самый, на котором вся проза Евгения Эдина и построена. И если бы автор не позволял себе предложений вроде «Гера встретил Кристю с учебы», я бы, наверное, мог полюбить писателя Эдина.
Но это ничего. Фактура здесь выдает писателя с будущим — «От люстры, звеневшей хрустальными сосульками в свете „медведевских” лампочек, до накидок на чайник в виде курицы в переднике; от совместных выездов на дачу в пошловато, но умилительно одинаковых панамках „папа-сын”, до подаренной дорогой зажигалки».
Мещанство вообще неизменно нуждается в реабилитации и осмыслении.
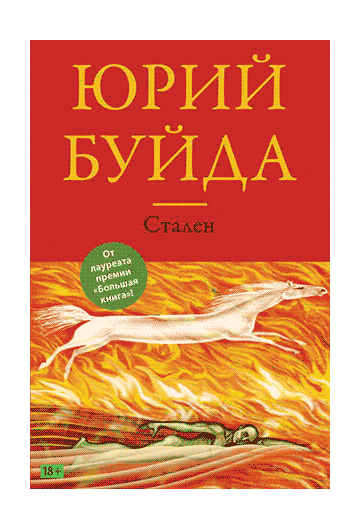 Юрий Буйда. Стален. М.: Эксмо, 2017
Юрий Буйда. Стален. М.: Эксмо, 2017
Лучше всего этот роман в своем монологе характеризует один из эпизодических героев, говоря, впрочем, о советской литературе, появившейся после 60-х годов, — «реализм без берегов».
Это верно, в том смысле, что «Стален» — это реализм, доведенный даже не до абсолюта, а до абсурда. Реализм не ограниченный ни жанровыми рамками, ни необходимостью, ни даже фантазией. Фантазия автора создает, как правило, некоторый формат, отдельную реальность, специальные условия для действия. В романе же «Стален» все сделано по принципу «сгорел сарай, гори и хата» — уж если что-то могло в жизни случиться, то оно случилось в этой книге.
По замыслу это — плутовской роман. Но плутовство героя сводится к тому, что он спит со всеми женщинами, что встречаются на его пути. Часто это одни и те же женщины. Одна из них — любовница его деда. Не молодая любовница деда, а ровесница покойного. По ряду причин у любовницы молодое тело. Так надо. Но не для замысла романа, не для движения сюжета, не для иллюстрации идейного содержания, просто для того чтобы герой по имени Стален Игруев мог переспать с ней.
Стален — «плут» по еще одной причине, которая вообще характерна для творчества Юрия Буйды. Дело в том, что герой — писатель и журналист. А писатель всегда вор, шпион и убийца — эта чеканная формулировка есть одновременно и название замечательного автобиографического романа Буйды. Тот роман был о становлении таланта. Этот — о прозябании посредственности.
Помимо главного героя, важную роль в романе играет окружение. Преимущественно неживое — приметы времени. События ГКЧП, 1993 год, мелкие коммерсанты, иномарки, паленый алкоголь, дешевая польская косметика, заря олигархии. Это все будто термины из учебника по 1990-м, и это, нужно признать, чрезвычайно удобный фон для приключений героя.
Стален постоянно напивается, засыпает, где ни попадя, не очень тщательно следит за собой, иногда с ним случается непроизвольная дефекация, а потом он снова спит с женщинами. И, конечно, герой мечтает написать великий роман. Одна из его женщин утверждает, что его будут ругать за описание эротических сцен. И, действительно, герой обжигается: после одной из его заметок в провинциальной газете общественность чуть не разносит редакцию. А в заметке всего-навсего крестьянка «покачивала красивыми бедрами».
И вот Юрий Буйда, включая режим реализма без тормозов и без берегов, сублимирует чаяния героя в свой замысел — составляет роман из эротических сцен. Здесь и женщина со сломанной ногой, и женщина с «грудями острыми и торчащими, как у истерички», и даже школьная учительница, которая предпочитает групповой секс.
«Мне хотелось написать великую книгу, и меня раздражали люди, обсуждающие похождения Аллы Пугачевой, спорящие о целебных свойствах пчелиного говна и мечтающие о дешевом мясе», — пишет герой Стален Игруев. С ним трудно не согласиться. Трудно также найти, чем это желание в романе подтверждено.
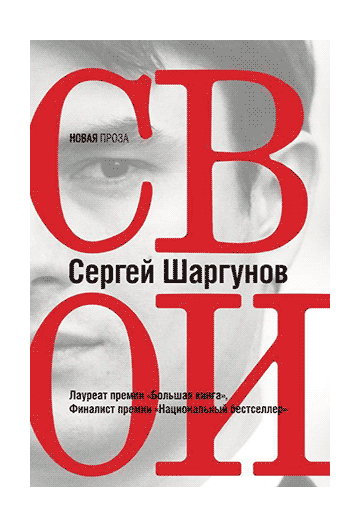 Сергей Шаргунов. Свои. М.: Редакция Елены Шубиной, 2018
Сергей Шаргунов. Свои. М.: Редакция Елены Шубиной, 2018
О Шаргунове уже можно писать в тех выражениях, что писал своему брату о Тургеневе Достоевский: «Но что это за человек, брат? Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, — я не знаю, в чем природа отказала ему?» Здесь нужно только поменять возраст (Шаргунову 37 лет), поэта заменить на писателя, а также проверить информацию о благосостоянии автора. Но в остальном — все же точно!
Книга «Свои» — это мемуары, которые человеку в положении Шаргунова полагаются. Автор нескольких весьма значительных романов, лауреат премии «Большая книга», выходец из известной московской семьи, журналист, автор литературного манифеста, да депутат Государственной думы, в конце концов. «Свои» — сборник рассказов в общем формате «по волнам моей памяти». Автор так и говорит, с этого и начинает — «Дико устроена память», — а дальше следуют сменяющие друг друга зачины: «хочу вспомнить этого…«, «хочу вспомнить того…»
И среди этих воспоминаний есть и Фадеев, и Летов, и Цветаева. И всегда это — «да, те самые». И все они связаны с семьей Шаргунова. Берия играл прадеду на фортепьяно, другой прапрадед эвакуировлся из Томска вместе с легендарным Пепеляевым, дома часто бывала Анастасия Цветаева, ходили в гости к Герасимову, у отца — священника о. Александра (Шаргунова) — под кроватью хранились черепа расстрелянной царской семьи. Все это Шаргунов как-то вспомнил, нашел, выспросил, проверил в архивах или по фотографиям из семейных альбомов и соединил в одно прерывистое, но цельное повествование.
Шаргунов не делает разницы между первым свиданием, походом на концерт «Гражданской обороны» или разговором прадеда с камлающим шаманом. Это все куски его — автора — истории. Каждый переливается, по-своему, но каждому есть место в той жизни, которую живет Шаргунов. И даже мужик Соков, который присматривает за взлетно-посадочной полосой заброшенного аэропорта, он тоже свой. Полоса пригодилась, на нее аварийно сел Ту-154; человек, получается, много лет ежедневно совершал подвиг. Его тоже хочется втянуть в свой круг, назвать своим. Древо жизни так широко, так распространено — от современных писателей до русских мореплавателей XVIII века, что почему бы в нем не быть и сторожу заброшенного аэропорта?
В рассказе «Поповичи» — о детях священников — он описывает неудавшиеся, сами собой сломавшиеся судьбы особенных мальчиков и девочек, которые были, казалось, лучше других. Не потому что богаче или благородней, а потому что образованнее, добрее, серьезнее и глубже. А все равно — вон оно как вышло. И это примиряет с некоторой элитарностью шаргуновского мира. Он пишет о том, что все мы в некотором роде «свои». Потому что механизм жизни, так или иначе, общий.
Отдельно хочется сказать о ключевой повести сборника «Правда и ложка». В ней Шаргунов нашел отличную метафору для описания рода — фамильная золоченая ложка, которая то терялась, то необъяснимым образом снова находилась в самых неожиданных местах, не всегда в семейном доме. Шаргунов будто ест историю и семьи, и страны, и мира — вот этой большой ложкой. А мир воспринимает как свою биографию.