Зима близко
Рецензия на новую книгу Андрея Аствацатурова «Не кормите и не трогайте пеликанов»
Андрей Аствацатуров. Не кормите и не трогайте пеликанов. М.: Редакция Елены Шубиной, 2019
Прежде всего, это текст филологический. Проза филолога, «роман романов» или роман о романах, про романы, против романов. Сначала, конечно, у нас идет сплошной Генри Миллер (да и потом он идет, только уже не сплошняком, а так, косяками). И как могло быть иначе, когда автор — главный в России специалист по Генри Миллеру, у которого есть даже целая книга: «Генри Миллер и его „парижская трилогия”».
Миллер непосредственно упомянут в романе. А сюжет (вернее, фабула) первой четверти романа — не цитата, но интерпретация «парижской трилогии». «Деконструкция!» — как восклицает по другому поводу в романе старенький преподаватель литературы; однако деконструкция, ключевой метод романа, назван. Дальше мы встречаем самое разное. Например, кусок текста, отсылающий к Гоголю и его подражателям-«почвенникам», лоскутами пришит и Чехов (как тут без Чехова?). Но третья треть романа Аствацатурова внезапно предстает перед нами образцом монументальной «производственной прозы» советского типа, «соцреализмом», который в силу бэкграунда «соцреалистов» и у них лучше получался на тему не заводов и колхозов, а про НИИ и прочие террариумы со змеями и скорпионами. Чаще же всего я, как читатель малоумный и необразованный, не могу определить, куда ведет гиперссылка, она у меня не открывается (видимо, я просто этой книжки или этого автора совсем не читал), но дикарским своим чутьем чую, что это именно отсылка к чему-то мною пока (ну, скажем так, пока) не прочитанному.
«Не кормите и не трогайте пеликанов» уже четвертая книга художественной прозы Андрея Аствацатурова, и в ней стал особенно и неумолимо строг собственный неповторимый язык автора. Теперь, открыв любую его книгу вслепую и прочитав пару абзацев, можно с полной уверенностью сказать: «Это Аствацатуров. Почему? Ну, как почему? Вот тут и тут. Сплошная аствацатуровщина». Похоже, автор говорит нам, что собственный стиль и слог невозможно уже создать и сочинить, но можно пересоздать, пересочинить и реновировать, предварительно деконструировав груды обрушенных временем столпов языка.
Но одномоментно и параллельно автор затевает игру не только с классиками, но и с современниками. Аствацатуров заявляет читателям: ребята, я не внук Жирмунского, не исследователь Миллера, не фанат Буковски-Апдайка (окей, да, но не только), я сожитель, сотрапезник и собутыльник живой (ладно, полуживой) русской литературы, от Виктора Топорова до Михаила Елизарова. Имена нескольких деятелей небрежно рассыпаны по страницам романа. Однако значительнее то, что в самом тексте устроена перекличка образов и настроений. Внезапно мы понимаем, что Катя, главный женский персонаж, — это просто ходульная кляча из песни Елизарова про свингеров: «Остановите свингер-пати, с другим ***** моя Катя».
Далее, это текст философский. И дело не только в упоминании Шпенглера. Основной философский вопрос, занимающий автора, — свобода воли и предопределенность. И, конечно, никакой свободы воли нет, а предопределенность, напротив, есть. Все наши мысли и поступки чуть более чем полностью прошиты в матрицу бытия, согласно «замыслу», непостижимость которого воспринимается нами как текучий абсурд. И это хорошее оправдание для пассивного интеллигентского невмешательства, и мы в недоумении, каким образом та же онтологическая предпосылка стала базисом для гиперактивного европейского предпринимательства.
Зато и мелкий бунт героя производственной части романа, решающегося на протестное самоувольнение, становится титаническим деянием прометеевского масштаба. Герой бунтует против воли богов; герой будет попран и сброшен в пропасти; боги восторжествуют; но, когда после циклического звездеца боги снова найдут в траве свои тавлеи, он же, Локи-Прометей, зная всё, тем не менее, снова начнет бунтовать. И вдруг (а на самом деле не вдруг) в ответ на бунт вселенная перестраивается, несправедливость устраняется, и тоскливый Локи понимает, что и бунт его так же был предрешен богами, и его низвержение, и его мнимая «победа» — всё часть, мать его, «замысла».
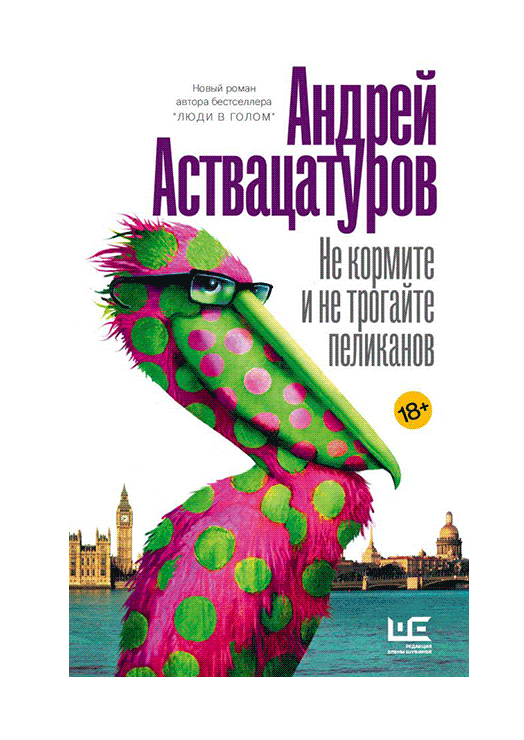 И еще: автор не стесняется уже высказывать свои идеи прямо, нарочито эксплицитно, вкладывая их в уста героев и даже (о ужас!) в авторские сентенции. От Достоевского он семимильными шагами направляется к Томасу Манну и его «Волшебной горе»: в романе идей мы говорим об идеях. И если кому-то это не нравится, то пусть он идет в задницу, ведь «идите в задницу!» — любимое высказывание лирического героя, амбивалентное в своем уважении-неуважении.
И еще: автор не стесняется уже высказывать свои идеи прямо, нарочито эксплицитно, вкладывая их в уста героев и даже (о ужас!) в авторские сентенции. От Достоевского он семимильными шагами направляется к Томасу Манну и его «Волшебной горе»: в романе идей мы говорим об идеях. И если кому-то это не нравится, то пусть он идет в задницу, ведь «идите в задницу!» — любимое высказывание лирического героя, амбивалентное в своем уважении-неуважении.
Теперь, чтобы было не так скучно, надо рассказать про секс. Секса в романе много. Автор словно бы хочет нам доказать, что не только загорелые мачо из фитнес-залов занимаются сексом, но и очкастые интеллигенты. Да еще как! Лирического героя все время кто-нибудь подбирает и трахает. «Надо использовать пассивную конструкцию, вы же дамы!» — вопит герой, но его обзывают «мизогенистом», берут на руки, относят на кровать и снова трахают. Кроме певицы Кати, накачанной силиконом (мы уже давно поняли, что никакой Кати нет и быть не может, она создана из силикона фантазий, эротических грез мужчины среднего возраста; кроме того, ее придумал вообще не Аствацатуров, а Елизаров), герой сходится с грудастой американкой Мисси, с грудастой девушкой из кафе Наташкой; а еще за него грозится выйти замуж максимально грудастая буфетчица Валя, да и лаборантка Дина, тоже не без грудей, игриво домогается близости, но герой боится — у нее страшный брат-спортсмен. Топоров на искреннее признание героя замечает: да, это для храбрых.
Герой снова сам себя упрекает в трусости, но трусости в нем на самом деле нет: есть только покорность, с которой легионер идет в атаку на копья варваров, но боится возвысить голос против центуриона; ведь центурион — это бог. Впрочем, в финале он решается и на это: бросается грудью на короткие клинки деканов-центурионов. Женщины раз за разом приземляют, причащают, пристраивают героя к бытию, которое иначе для него, филологически-бесплотного, не столько необходимо, сколько невозможно. Профессор Петр Алексеевич в романе умирает, лаская любимую проститутку в борделе на улице Рубинштейна. Герой думает: это была для него единственная связь с живой жизнью. Но таков же и он сам. Кто бы он был и где, если бы не «простыня да кровать», если бы не «поцелуй да в омут».
Лирический герой Аствацатурова — это сам Аствацатуров. Андрей Алексеевич, преподаватель зарубежной литературы («зарубы»), проживающий на улице Политехнической, у метро площадь Мужества, ровно такой же комплекции и консистенции. И чем больше деталей совпадает, тем более очевидно, что это обман и разводка. Потому что фабула слизана у Миллера, а сюжет черт знает как придуман, и с настоящим Аствацатуровым всего этого не случилось, хотя могло быть и хуже. Альтернативная автобиография, одним словом. Автор посвящает роман своим друзьям, но, мне кажется, лучше было бы посвятить его своей жене и вручить первый экземпляр со словами: вот, дорогая Ксения, это книга о том, что бы было со мной, если бы в свой самый счастливый день я не встретил тебя и не родил с тобой двух замечательных правнуков Жирмунского.
Ксения при этом должна была бы испытать гремучую смесь восхищения, гордости, благодарности и подозрения: здесь что-то не так, и подобострастная эпиграфика смыкается с саркастической эпитафией мужской свободе. И вот еще надо сказать: проза Аствацатурова гендерная, мизогиническая, мужская. И ведет ее от страницы к странице, от главы к главе неизбывная и невыразимая ревность мужчины, ревность к женщине и к жизни; потому что жизнь — это, конечно, женщина. И женщина-жизнь никогда нам не может принадлежать полностью. Такова ее природа.

Андрей Аствацатуров
Фото: Город+
Мир в романе «Не кормите и не трогайте пеликанов» остыл. Если главной сезонной метафорой в предыдущей книге «Осень в карманах» было время года, вынесенное в заглавие, то теперь это зима. Зимой люди становятся больше за счет шуб, каблуков, шапок. Стараются «занять места больше, чем им положено». И так же разбухают, как улицы, отягченные грязными сугробами, мысли и смыслы в сознании (недаром мудрый русский язык не знает множественного числа для этого слова) людей-пеликанов. Всё застыло, замерло. Всё окончательно и безнадежно. Тоска не от того, что в жизни что-то не так. Всё так — потому и тоска. Тоска — это не характеристика, это имманентное свойство экзистенции. Что же дальше? Что за зимой-тоской? Весны в климатическом антирае города Петербурга не предусмотрено, не заложено замыслом, не предустановлено. За зимой следует осень, а за осенью снова зима. Но счастливы будем мы, если переживем зиму и дотянем до новой осени, которую можно будет распихать по карманам.
И напоследок, про название, которое по закону жанра должно и определять основную идею романа, и опровергать, звуча пронзительным контрапунктом. В начале текста герой видит табличку у пруда в Лондоне «Не кормите и не трогайте пеликанов». И после не раз вспоминает, рассуждая о том, что нельзя трогать людей, которые ведь такие же смешные, трогательные и трагичные, несуразные как пеликаны. Каждый толкает в гору свой камень, но Сизифа нельзя отвлекать: отнять у него камень означает отнять у него жизнь и судьбу. Нельзя пытаться вырвать человека с корнем из его скудного огорода, перенести в благодатные почвы Франции или Таиланда: противу всех упований наша клюква скорее зачахнет, чем разрастется под неродным солнцем.
Нельзя кормить человека надеждой, нельзя обещать ему счастье; счастья не будет, а боль только возрастает со временем, ибо таково свойство времени, его имя — взращивающее боль. Однако же мы всё ждем, ждем именно этого. Ждем, что кто-то придет, кто-то накормит и обязательно нас потрогает, вселит в нас уверенность, что мы живы, что мы осязаемы, плотны, что мы есть и пить, что мы часть всего, а не картонная декорация, мы на-стоящие, стоящие на земле, на твердой опоре плотного бытия; и нужнее всего это нам именно в тот миг, когда почва под ногами становится хлюпающим «с какими-то детородными звуками» полуснежным болотом, и мы теряем иллюзию того, что мы существуем, будем существовать или когда-нибудь вообще существовали. А если это невозможно, тогда «скорее бы уже кто-нибудь пришел и убил всех нас».
Но вы не расстраивайтесь. Всё будет хорошо. Всё исполнится.
Придут и убьют.
Зима близко.