Жаба потеет: книги недели
Что спрашивать в книжных
Сергей Ушакин. Медиум для масс — сознание через глаз: фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020
 Богато иллюстрированное — 165 картинок, многие в цвете — эссе посвящается восхождению фотомонтажа в искусстве и масс-медиа советских 1920–1930-х. Профессор Принстонского университета Сергей Ушакин демонстрирует, что на руинах старого мира именно фотографический монтаж стал не только эстетическим, но и эпистемологическим средством производства новой связности — за счет сцепления и сопоставления разнородных элементов.
Богато иллюстрированное — 165 картинок, многие в цвете — эссе посвящается восхождению фотомонтажа в искусстве и масс-медиа советских 1920–1930-х. Профессор Принстонского университета Сергей Ушакин демонстрирует, что на руинах старого мира именно фотографический монтаж стал не только эстетическим, но и эпистемологическим средством производства новой связности — за счет сцепления и сопоставления разнородных элементов.
Прием и подход пережили стремительную мутацию: из способа авангардной «фиксации фактов» они за считанные годы превратились в способ их ритуального «производства», и в конечном счете в сугубо декоративный троп. Однако распространение фотомонтажа, настаивает Ушакин, для советских людей не прошло бесследно: через него были усвоены новые способы оптического восприятия, привычка к фрагментирующему и «собирающему» зрению.
«Благодаря ребусам, сводящим в пределах одной фразы буквы, образы и цифры, юные зрители постигали на практике непростые уроки относительности языкового знака и произвольности связи между изображением и его смыслом».
Акира Куросава: Жабий жир. Что-то вроде автобиографии. М.: Rosebud Publishing, 2020. Перевод с японского Елизаветы Ванеян и Анны Помеловой
 Впервые на русском языке опубликована книга мемуаров Акиры Куросавы (1910–1998), и это, безусловно, заметная новинка. Во-первых, дело в том, что это источник колоритных биографических фактов, которые можно узнать лишь из первых рук (вроде первого в жизни воспоминания режиссера или рассказ о том, как он пережил чудовищное землетрясение 1923 года). Во-вторых, это очень трогательный исповедальный документ, который позволяет прикоснуться к важному измерению человечности.
Впервые на русском языке опубликована книга мемуаров Акиры Куросавы (1910–1998), и это, безусловно, заметная новинка. Во-первых, дело в том, что это источник колоритных биографических фактов, которые можно узнать лишь из первых рук (вроде первого в жизни воспоминания режиссера или рассказ о том, как он пережил чудовищное землетрясение 1923 года). Во-вторых, это очень трогательный исповедальный документ, который позволяет прикоснуться к важному измерению человечности.
Название мемуаров отсылает к японскому народному снадобью, которое изготавливалось следующим образом. Жабу сажали в зеркальную коробку; там рептилия, пораженная собственным обликом, явленным ей со всех сторон, начинала исходить маслянистым потом. Для Куросавы процесс письма о себе, очевидно, равно мучителен, но текстуальный продукт получается целительный.
«Я часто выходил из себя. По словам моих помощников, когда я начинаю злиться, лицо у меня краснеет, а кончик носа бледнеет. Прямо то что надо для цветного кино, но не знаю, правда это или нет, потому что я ни разу не бесился, стоя перед зеркалом. С другой стороны, думаю, что эти наблюдения очень точны, ведь для моих помощников это верный признак надвигающейся опасности».
В отрывке, который опубликован на «Горьком», можно прочесть рассказ режиссера о самом болезненном эпизоде своей юности — самоубийстве любимого брата.
Павел Палажченко. Профессия и время. Записки переводчика-дипломата. М.: Новая газета, 2020
 Переводчик Павел Палажченко — специалист из категории «таких больше не делают», свидетель мира, где у политиков были характеры, но не было твиттера. Выпускник московского ИнЯза, он пять лет переводил в русской секции при секретариате ООН в Нью-Йорке, затем работал в МИД CCCР, служил личным переводчиком Михаила Горбачева и советского министра иностранных дел Эдуарда Шеварнадзе. Палажченко участвовал во всех советско-американских встречах на высшем уровне в 1985–1991 годах. Как можно догадаться, первый и последний президент СССР ему безоговорочно доверял.
Переводчик Павел Палажченко — специалист из категории «таких больше не делают», свидетель мира, где у политиков были характеры, но не было твиттера. Выпускник московского ИнЯза, он пять лет переводил в русской секции при секретариате ООН в Нью-Йорке, затем работал в МИД CCCР, служил личным переводчиком Михаила Горбачева и советского министра иностранных дел Эдуарда Шеварнадзе. Палажченко участвовал во всех советско-американских встречах на высшем уровне в 1985–1991 годах. Как можно догадаться, первый и последний президент СССР ему безоговорочно доверял.
Книга воспоминаний Павла Руслановича практически ничего не сообщает об искусстве перевода (для этого ищите его же «Несистематический словарь»), однако это бесценный — честный и фактурный — неопосредованный источник данных о том, как первые лица находят общий язык, договариваются за кулисами, взвешивают за и против и вообще вершат судьбы мира.
«На прием в ООН все-таки поехали. Сборище было грандиозное. Горбачеву пришлось пожать руку сотням людей. Главы государств, послы, знаменитости. Представляя некоторых из них, ооновский шеф протокола объявлял:
— Mr. and Mrs. X, of the high financial circles of New York.
Среди этих „птиц высокого полета” был и Дональд Трамп — еще молодой, уже богатый, тогда еще демократ».
Михаил Свердлов. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети XIII века. СПб.: Наука, 2020
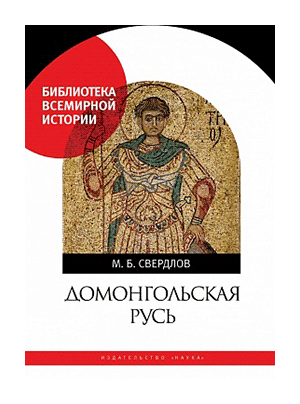 Издательство «Наука» перевыпустило эпический (одних примечаний и источников — 200 страниц) труд специалиста по домонгольской Руси Михаила Борисовича Свердлова. Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН разбирает от самых основ, как в совсем молодом русском государстве происходило становление и развитие институтов княжеской власти.
Издательство «Наука» перевыпустило эпический (одних примечаний и источников — 200 страниц) труд специалиста по домонгольской Руси Михаила Борисовича Свердлова. Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН разбирает от самых основ, как в совсем молодом русском государстве происходило становление и развитие институтов княжеской власти.
Автор подробно разбирает основные житейские и «карьерные» повороты в судьбах русских князей середины IX — первой трети XIII века, сопровождая рассказ глубокой аналитикой социально-экономического устройства средневековой Руси. Миссионерская деятельность княгини Ольги протекает на фоне становления церемониальных законов княжеского поведения, нормы византийского права проникают на Русь вместе с крещением Владимира, Андрей Боголюбский гибнет на фоне раздвоения «правд» на боярскую и княжескую — если не детектив, то близко к этому. Исследование стоит как титановый лом, но для интересующихся периодом оно незаменимо.
«В древнерусском холопстве прослеживается эволюция патриархального рабства (не рабовладения или развитых рабовладельческих отношений) в сословие, которое просуществовало до его отмены и слияния с крепостным крестьянством при Петре I».
Дмитрий Гаричев. Сказки для мертвых детей. СПб.: Князев и Мисюк, 2020
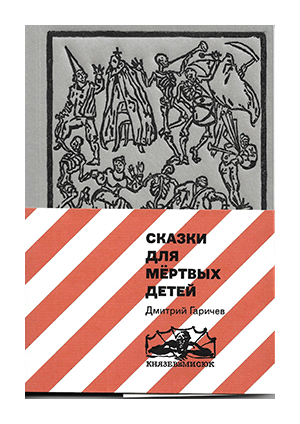 Поэт и переводчик Дмитрий Гаричев, сочиняющий плотные и тревожные стихи, опубликовал книгу рассказов. По указанию автора, это «некий hommage Коту-Мурлыке, главному сказочнику моего детства». Из сказанного можно сделать — вероятно, поспешный, но небеспочвенный —вывод о том, что детство у Гаричева было не простым.
Поэт и переводчик Дмитрий Гаричев, сочиняющий плотные и тревожные стихи, опубликовал книгу рассказов. По указанию автора, это «некий hommage Коту-Мурлыке, главному сказочнику моего детства». Из сказанного можно сделать — вероятно, поспешный, но небеспочвенный —вывод о том, что детство у Гаричева было не простым.
Шесть «сказок» представляют собой истории о своеобразных смещениях в течении событий, которые представляют из себя не столько цепочку отчетливых явлений, сколько тревожную суету. Возможно, в этих смещениях герои суеты могли бы опознать чудо, однако на спасительную интервенцию они действительно не слишком похожи. Проза Гаричева, как и стихи, плотно, до удушливости, сбита, но вместе с тем — из-за обилия глаголов — подвижна, а в целом по атмосфере напоминает некоторые тексты ВИА «Порез на собаке».
«Невидимая за щитами заборов машина ползла, заикаясь на ухабах. Когда свет их фар пролился в траву перед нами, я шагнул вперед, но он остановил меня. Морда автомобиля опасливо высунулась слева и тотчас же повернулась к нам, ослепляя: между ними и нами оставалось всего два десятка шагов, они больше не двигались, и я представил, как водитель тянет из бардачка свой травмат, хищным шепотом матеря обоссавшуюся жену. Он не станет орать нам, угрожать или уговаривать, а просто выстрелит в того, кто будет к нему ближе. Я люблю тебя, сказал я товарищу, я тебя очень люблю. Я решил не щадить никого».