Зеркальные двойники: сравнительные жизнеописания Некрасова и Фета
Валерий Шубинский о двух биографических книгах Михаила Макеева
Михаил Макеев. Николай Некрасов. М.: Молодая гвардия, 2017
Михаил Макеев. Афанасий Фет. М.: Молодая гвардия, 2020
Три года назад в серии ЖЗЛ была переиздана книга Михаила Макеева о Некрасове, впервые увидевшая свет еще в 2008 году. В этом году появилась написанная им биография Фета. В том, что один и тот же автор взялся за жизнеописания именно этих двух поэтов, заключен, конечно, некий важный и глубокий месседж.
В самом деле, Некрасов и Фет составляют совершенно уникальную пару. В своем поколении они (погодки!) не имеют соперников, кроме друг друга. При этом трудно назвать русских поэтов первого ряда, которые были бы настолько полярны во всех отношениях — по поэтике, мировосприятию, общественной позиции, способу существования в литературном процессе. Хотел написать «по складу личности», но тут как раз все не так просто. По крайней мере, одна общая черта у двух классиков была, и это черта очень редкая у поэтов, — житейская практичность и умение зарабатывать деньги.
Каковы же недавно написанные биографии Некрасова и Фета? Что нового и важного позволяют они нам понять?
Начнем с той, которая появилась раньше.
Первое, что бросается в глаза при чтении книги Макеева о Некрасове, — ее спокойная, непафосная дельность. Автор дает себе труд подробно разобраться в сути каждой человеческой ситуации, любого изгиба отношений и эмоций, и внятно донести ее до читателя. Это очень большая часть работы биографа.
Очень часто эти без спешки разобранные ситуации оказываются не похожи на существующие в сознании читателя стереотипы. То, что мать Некрасова отнюдь не польская аристократка, за которую он ее выдавал, общеизвестно. Но Макеев разрушает и другие составляющие легенды: Алексей Сергеевич Некрасов вовсе не похищал свою невесту, а затем никак ее особенно не мучил, любовниц при ее жизни не содержал (по крайней мере, открыто), вообще не был ни домашним тираном, ни (в отличие от своего сына) заядлым игроком. Вот, впрочем, слова самого Николая Некрасова: «В произведениях моей ранней молодости встречаются стихи, в которых я желчно и резко отзывался о моем отце. Это было несправедливо, вытекало из юношеского сознания, что отец мой крепостник, а я либеральный поэт. Но чем же другим мог быть тогда мой отец? — Я побивал не крепостное право, а его лично, тогда как разница между нами была, собственно, во времени».
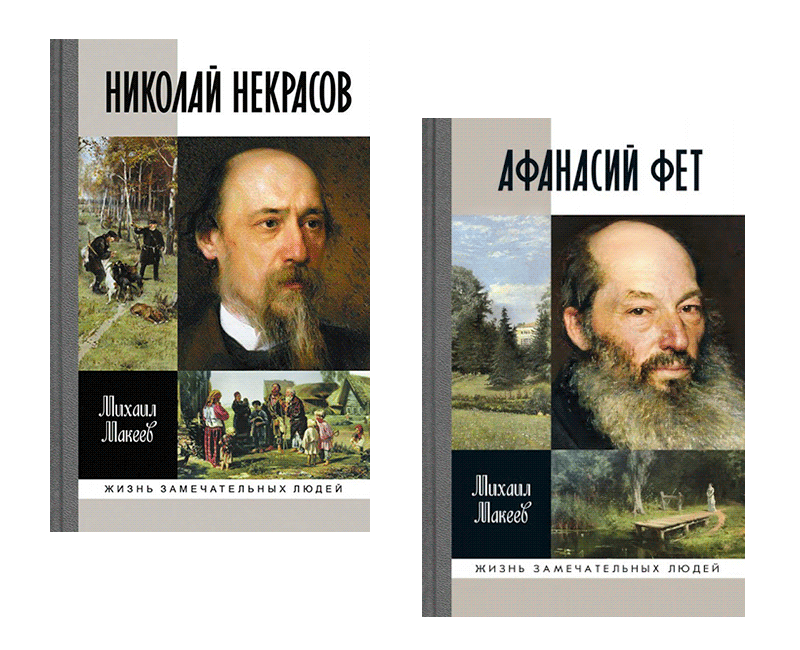 Более того, отец вовсе не лишал сына содержания за то, что тот вместо Дворянского полка предпочел поступить в университет. Он лишь отказался оплачивать праздное пребывание в Петербурге провалившегося на вступительных экзаменах в университет отпрыска... Позднее Некрасов вел с отцом вполне сердечную переписку, тот гордился сыновней славой, просил высылать ему книги, но, к счастью, не открывал их: во всяком случае, «на стихи, где выведен он сам в образе жестокого развратного крепостника, он никак не отреагировал».
Более того, отец вовсе не лишал сына содержания за то, что тот вместо Дворянского полка предпочел поступить в университет. Он лишь отказался оплачивать праздное пребывание в Петербурге провалившегося на вступительных экзаменах в университет отпрыска... Позднее Некрасов вел с отцом вполне сердечную переписку, тот гордился сыновней славой, просил высылать ему книги, но, к счастью, не открывал их: во всяком случае, «на стихи, где выведен он сам в образе жестокого развратного крепостника, он никак не отреагировал».
Здесь бы стоило поразмыслить над тем, почему поэт так трансформирует свое детство, над природой (возможно, фрейдистской) созданной им легенды, но биограф предпочитает просто поставить читателя перед фактами. Вместо описанной поэтом фиктивной драмы в семье Некрасовых происходят другие, реальные — и очень колоритные, много говорящие о парадоксальных порядках александровской и николаевской России. Страны, где, например, крепостные крестьяне могли получить в наследство (от родственницы, вышедшей во дворянство) других крепостных, но должны были немедленно их продать.
Но рассказ идет дальше. И вот тут-то автор биографии оказывается перед выбором: о чем говорить? что именно в жизни героя оказывается главным? Первая редакция книги Макеева называлась «Николай Некрасов: поэт и предприниматель». Надо сказать, что Некрасову-предпринимателю, издателю, организатору биограф уделяет едва ли не больше внимания, чем поэту. Превращение сочинителя экзальтированно-романтических стихов в низового литературного ремесленника, а потом — в энергичного коммерсанта-издателя (но коммерсанта «с идеями») описано на редкость убедительно. Автор не льстит герою и даже в самых сложных ситуациях не становится безоговорочно на его сторону. Взять сюжет с «огаревским наследством» — это уже, в сущности, прямая уголовщина, мошенничество, касающееся к тому же собрата-поэта. Но Макеев не держится за распространенную и выигрышную версию, согласно которой Некрасов просто взял на себя вину любимой женщины — нет, он занимает подчеркнуто нейтральную позицию, не обвиняя Некрасова, но и не снимая с него подозрений.
В целом Некрасов производит впечатление не «жулика» (как прямо называл его Герцен), но и не благородного организатора-альтруиста. Он — честный, но рациональный и жесткий бизнесмен. Он воюет с конкурентами на уничтожение, думая о своей выгоде, а не о судьбах русской литературы; он отказывает Белинскому, другу и учителю, в его претензиях на статус компаньона в издании «Современника»: Белинский болен и скоро умрет, а пай перейдет к его несимпатичной вдове. Этика... ну, скажем, как у киплинговского сэра Энтони Глостера. Только сэр Энтони скопил богатство — растратить его предстоит сыну-эстету. Некрасов же... Все-таки из него не вышел настоящий капиталист. К тому моменту, когда «Современник» был закрыт по политическим причинам, некогда преуспевающий журнал задыхался от долгов. Неутомимый Некрасов, чуть отдохнув, берется за новое дело — «Отечественные записки» — в союзе со своим недавним конкурентом Краевским. Но наследство оставляет скромное. На что все ушло? На высокие гонорары сотрудникам (а это — цвет русской литературы)? На псовую охоту, роскошные обеды, содержанок и прочие атрибуты барского образа жизни?
 В чем можно упрекнуть книгу Макеева? Во-первых, в некоторой историко-литературной схематичности, особенно поначалу. «Циничный Сенковский охотно публично провозглашал гениями таких ничтожеств, как Тимофеев или Кукольник, и холодно говорил о Пушкине и Лермонтове. И в этом были своя логика и своя выгода. Такая поэзия легко подменяла конкретный протест абстрактным. Бороться с бурей или роком, бросать вызов грозе или волне существенно проще и безопаснее, чем бороться с положением вещей в стране. Если присмотреться, то фактически вся подобная поэзия в конечном счете вполне благонамеренна: бурные страсти легко сводятся к смирению, к провозглашению покорности Богу, проповеди вполне убогой морали...» Подобная картина литературной жизни 1830-х годов, восходящая к советскому литературоведению, кажется ныне устаревшей — в свете работ Абрама Рейтблата, к примеру; и едва ли Пушкин согласился бы с тем, что цель литературы — «бороться с положением дел в стране». Дальше картина усложняется, приобретает объем, но вот таких пассажей в первой половине книги лучше было бы избежать.
В чем можно упрекнуть книгу Макеева? Во-первых, в некоторой историко-литературной схематичности, особенно поначалу. «Циничный Сенковский охотно публично провозглашал гениями таких ничтожеств, как Тимофеев или Кукольник, и холодно говорил о Пушкине и Лермонтове. И в этом были своя логика и своя выгода. Такая поэзия легко подменяла конкретный протест абстрактным. Бороться с бурей или роком, бросать вызов грозе или волне существенно проще и безопаснее, чем бороться с положением вещей в стране. Если присмотреться, то фактически вся подобная поэзия в конечном счете вполне благонамеренна: бурные страсти легко сводятся к смирению, к провозглашению покорности Богу, проповеди вполне убогой морали...» Подобная картина литературной жизни 1830-х годов, восходящая к советскому литературоведению, кажется ныне устаревшей — в свете работ Абрама Рейтблата, к примеру; и едва ли Пушкин согласился бы с тем, что цель литературы — «бороться с положением дел в стране». Дальше картина усложняется, приобретает объем, но вот таких пассажей в первой половине книги лучше было бы избежать.
Второй упрек — не освещена работа Некрасова-критика, не упомянута, например, статья «Второстепенные русские поэты», в которой был «открыт» Тютчев. Между тем редакторская и издательская деятельность Некрасова не была бы настолько плодотворной, если бы не его потрясающее чутье на чужие тексты.
Третий — недостаточно ярки образы окружавших Некрасова людей. То есть иные выписаны крупно (прекрасен Дружинин — джентльмен, эстет и завсегдатай борделей), иные (скажем, Панаева) заслуживают более выпуклого портрета.
Но главный недостаток книги в другом. В ней мало, несоразмерно мало Некрасова-поэта. А то, что есть, во многом случайно. О многих, вероятно, самых великих некрасовских вещах («Влас», «О погоде», «Орина — мать солдатская», «Похороны») не сказано ничего или почти ничего. Иногда трактовки стихотворений ставят в тупик. Так, Макеев разбирает «Несжатую полосу» как стихи о крестьянине — и только о нем, игнорируя и автобиографический мотив (Некрасов в 1854-м считал, что смертельно болен) и философский подтекст, напоминающий об «Осени» Баратынского. В связи с поэмой «Мороз, Красный нос» говорится о вдохновляющих автора идеях, но не о смелой композиции, не о гениальных стиховых находках. Вообще о Некрасове — революционере и виртуозе русского стиха, о том, как эта виртуозность связана с некрасовской интонацией, не сказано ничего, как и об иных аспектах «мастерства Некрасова». Ничего не говорится и о некрасовском урбанизме, о восприятии поэтом Петербурга. Правда, глубоко и проницательно написано о двух страшных и парадоксально перекликающихся стихотворениях — «Еду ли ночью...» и «Слезы и нервы».
В отрыве от поэзии между тем невозможно понять до конца личность и взгляды Некрасова. Ведь он не просто верил в то, что «стремлением всякого порядочного человека должно быть устранение социальной несправедливости, установление законов и правил жизни, воплощающих идеалы Просвещения: Свободу, Равенство, Братство», — и в тому подобные прогрессистские трюизмы. Для него и близких ему по духу людей предпринимательство для себя, конкуренция, барское и буржуазное потребительство — все это было мерзко, порочно, греховно. «Влас» или «Современники» дают ощутить интенсивность этого внутреннего чувства и порожденного им отвращения к себе. Несомненно, это было одним из источников трагической, «страдательной» природы некрасовского творчества, того, что сближало Некрасова с Достоевским и обусловило их добрые (поверх политических расхождений) отношения и высокую взаимную оценку. Вне этого Некрасов предстает чуть ли не самодовольным и расчетливым «сислибом», как сейчас это принято называть. Но это — несправедливый взгляд.
Перейдем теперь к книге о Фете.
В ней как раз о поэзии сказано много — и сказанное глубоко и проницательно.
«Обретенное умение соединять предметы не логической, причинно-следственной связью, а общим или контрастным или полифоническим „звучанием” позволяет Фету уже в ранних стихах приступить к созданию поэтического языка, который в „Лирическом Пантеоне” вызывал ощущения „бенедиктовщины”, глубоко переосмыслить принцип дерзкого сочетания несочетаемых слов. В первом сборнике сочетались слова разных стилистических регистров, вступали в причудливые связи ради самой этой причудливости, „экзотики”. В стихах 40-х годов Фет заменяет грамматическую или логическую связность — музыкальной и эмоциональной, при которой соединяемые „неправильно” слова создают не стилистическую какофонию, а новую гармонию, не бенедиктовскую бессмыслицу, но новые смыслы».
При таком взгляде и история литературы выглядит не так примитивно, не наподобие осмеянной Тыняновым псевдобиблейской родословной, где «Пушкин родил Гоголя». Бенедиктовщина — не просто безвкусное порождение коммерческой журналистики 1830-х, она оказывается по-своему плодотворной; боковые ветви литературного древа дают начало поэтическому языку следующей эпохи.
Но все-таки в центре внимания Макеева — биография Фета-Шеншина. И начинает он, естественно, со сложных и давно изученных обстоятельств рождения поэта, добавляя к известной картине только собственное удивление: что заставило Каролину Беккер-Фёт со скандалом оставить мужа и дочь ради такого заурядного человека, как Афанасий Неофитович Шеншин? Биограф не считает нужным касаться различных легенд, связанных с происхождением Фета, — в частности, слухов о «еврейке-шинкарке», якобы «купленной» Шеншиным у мужа. Между тем слухи эти (безосновательные, но чрезвычайно прочные) были одним из источников комплекса неполноценности Фета и объясняют его мучительное стремление к восстановлению «родового имени» и дворянского достоинства. Речь, кстати, шла лишь о дворянстве потомственном — личное дворянство Фет получил с первым офицерским чином (Макеев этого не объясняет).
 Но если в этих комплексах и стремлениях было нечто болезненное (не забудем, что мать и сестра поэта с определенного момента страдали психическим расстройством, — самого его безумие настигло, видимо, лишь в последний момент, обусловив страннейшую смерть: от сердечного приступа при неудачной попытке самоубийства), то все-таки основа личности Афанасия Фета другая: сухая, трезвая, мужественно-рациональная. Он, что неожиданно для автора пронизанных чувственностью стихов, по-викториански добродетелен — в противоположность Некрасову. Не считая себя вправе жениться на любимой Марии Лазич, Фет отказывается от «незаконной» близости с ней (хотя девушка, собственно, на все готова). Другое дело, к чему привело это благородство. «Несоблазненная» Лазич гибнет страшной смертью, а ее сверстница Мария Петровна Боткина, пережившая некий бурный роман, родившая (и потерявшая) внебрачного ребенка, спустя несколько лет счастливо выходит замуж — и как раз за Афанасия Фета. Вопреки распространенной версии, это не «женитьба на деньгах» (к этому времени у Фета уже есть собственное состояние, а приданое дочери миллионера-чаеторговца не так уж велико), хотя выбор поэта, судя по всему, удивляет биографа не меньше, чем выбор его матери.
Но если в этих комплексах и стремлениях было нечто болезненное (не забудем, что мать и сестра поэта с определенного момента страдали психическим расстройством, — самого его безумие настигло, видимо, лишь в последний момент, обусловив страннейшую смерть: от сердечного приступа при неудачной попытке самоубийства), то все-таки основа личности Афанасия Фета другая: сухая, трезвая, мужественно-рациональная. Он, что неожиданно для автора пронизанных чувственностью стихов, по-викториански добродетелен — в противоположность Некрасову. Не считая себя вправе жениться на любимой Марии Лазич, Фет отказывается от «незаконной» близости с ней (хотя девушка, собственно, на все готова). Другое дело, к чему привело это благородство. «Несоблазненная» Лазич гибнет страшной смертью, а ее сверстница Мария Петровна Боткина, пережившая некий бурный роман, родившая (и потерявшая) внебрачного ребенка, спустя несколько лет счастливо выходит замуж — и как раз за Афанасия Фета. Вопреки распространенной версии, это не «женитьба на деньгах» (к этому времени у Фета уже есть собственное состояние, а приданое дочери миллионера-чаеторговца не так уж велико), хотя выбор поэта, судя по всему, удивляет биографа не меньше, чем выбор его матери.
Интереснее всего страницы, посвященные фетовской публицистике. Вопреки существующим стереотипам, Фет не «обскурант», «крепостник», «мракобес» и т. п., а последовательный либертарианец, рыночник. Для него сельское хозяйство — «коммерческое предприятие, подобно всякому другому, ни более, ни менее». Твердыни, которые он защищает, — частная собственность, рынок, конкуренция, четкий писаный закон (в том числе — защищающий права землевладельцев-работодателей). Предмет его ненависти — община. Либертарианство Фета исключительно последовательно. Занимаясь помощью голодающим во время неурожая, он добивается, чтобы деньги выдавались в кредит (гарантия того, что они не достанутся люмпену-бездельнику). Он выходит из Литературного фонда, когда тот начинает массово помогать «бедным литераторам» — мелким газетчикам, физически здоровым, но из-за малых способностей не готовым прокормить себя писательским трудом (и не желающим, как сам Фет, взяться за что-то другое). «Бедный литератор — это литературное насекомое, которое не имеет права на существование». К Некрасову, сперва приятелю, Фет постепенно проникается ненавистью (односторонней). Но едва ли некрасовские способы умножения капиталов казались Афанасию Афанасьевичу такими уж безнравственными — в отличие от его бессмысленной расточительности. Сам Фет, впрочем, сельскохозяйственным предпринимателем был недолго, всего лет пятнадцать. Зато преуспел.
При этом в социальных вопросах он консервативен. Но не как «ватник», а скорее как «реднек» американского образца. Неудивительно, что левым современникам такая позиция казалась «человеконенавистнической». При этом если Некрасов оказывается в диалоге с Достоевским, то друг и собеседник Фета — Лев Толстой. Однако Фет остается на позициях раннего Толстого: приятие органической жизни, отвращение к абстрактным «идеям» — да, христианская проповедь и утопия — нет. В год окончания «Войны и мира» Фет и Толстой спорят из-за обстоятельств смерти шурина Фета — критика и философа Василия Петровича Боткина. Умирающий эстет Боткин озабочен устройством званого обеда и концерта вместо мыслей о вечности. Толстого это шокирует, Фета — нисколько. Но сам он умрет, как мы знаем, совсем иначе.
В жизни Фета тоже есть трагическое противоречие, и оно — иное, чем у Некрасова. Макеев не проговаривает его, но хорошо показывает. Это — противоречие между рациональной, трудовой, «кулацкой» в хорошем смысле слова жизненной этикой Фёта-Шеншина, фермера и мирового судьи, переводчика античных классиков и камергера, и воздушным, иррациональным, протомодернистским, свободным от всякой прагматики характером фетовской лирики. Это противоречие хорошо символизируют две любви его жизни: Шеншин-человек — заботливый и нежный супруг Марьи Петровны; Фет-поэт продолжает мучительный сорокалетний диалог со сгоревшей Лазич. Примирить два мира, две жизни помогает ему философия Шопенгауэра, но не до конца. Страшная и странная гибель символизирует эту незаделанную жизненную щель. Поэтому если что и можно поставить в вину отличной книге Макеева — это то, что и Фет, как и Некрасов, все-таки оказывается у него чуть гармоничнее и благополучнее, чем это было на самом деле.
Но и при всем том обе книги принадлежат к лучшим писательским биографиям последних лет.