Здесь обитают экономисты
О книге Дианы Койл «Винтики и чудища: какая она, экономическая наука, и чем она должна стать»
В книге «Винтики и чудища» Диана Койл выступает в двойственной роли: она одновременно и нападает на экономическую теорию, и защищает ее от лица экономистов. О том, насколько удачным получилось столь парадоксальное высказывание профессора Кембриджского университета, рассказывает Руслан Хаиткулов.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Диана Койл. Винтики и чудища: какая она, экономическая наука, и чем она должна стать. М.: Издательство института Гайдара, 2025. Содержание
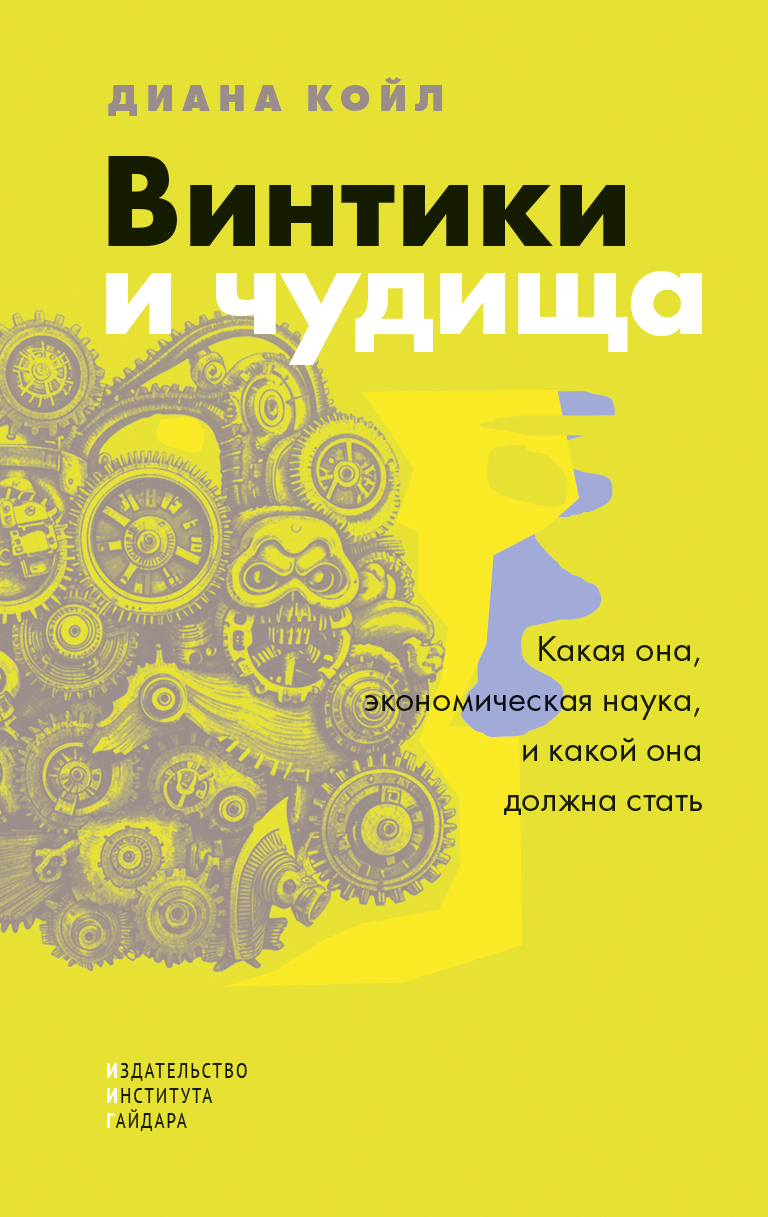
Британская ученая Диана Койл утверждает: «Экономическую науку не ругает только ленивый», и с ней сложно не согласиться. Эта критика возникла буквально сразу после ее появления как отдельной дисциплины и не прекращается и по сей день. С одной стороны, экономистов гневно порицают представители других общественных наук. С другой — не менее яростно атакуют мейнстрим изнутри профессии теоретики, представляющие неортодоксальные направления. Сравнительно редкой (и потому тем более любопытной) остается третья перспектива: рефлексия над слабостями экономической науки со стороны тех, кто вполне успешно занимался своими исследованиями в рамках ее магистрального направления. Примером такой рефлексии как раз может служить книга Койл «Винтики и чудища: какая она, экономическая наука, и какой должна стать», недавно переведенная и опубликованная в Издательстве института Гайдара.
Уже в самом начале книги автор замечает, что критика экономической теории зачастую не очень справедлива, так как оппоненты выбирают в качестве своей мишени давно устаревшие теории 1980–1990-х гг., в то время как за эти годы профессия давно шагнула вперед. Нельзя не признать, что здесь есть здравое зерно — действительно, мейнстрим 2021 г. (когда была опубликована в оригинале книга Койл) после появления поведенческой экономики, рандомизированных экспериментов, эконометрической «революции достоверности» и других новаций достаточно сильно отличается от трудов условного Милтона Фридмана. Цель, которую ставит себе Койл, — указать на действительные, а не мнимые проблемы современной теории, которые ей, как инсайдеру, видны гораздо лучше. Чтобы справиться с этой задачей, она выделяет две группы проблем, связанных с «винтиками» и «чудищами» соответственно.
В роли «винтиков» в экономической науке выступают люди, а вернее — то представление о людях, на котором основываются большинство ее построений. Эта модель, которую принято называть Homo Oeconomicus, предполагает, что индивиды являются строго рациональными, имеют устойчивые предпочтения, всегда четко представляют себе свои цели и желания, взаимодействуют с другими индивидами только через рынок, умеют найти оптимальное решение задачи при заданных ограничениях и т. д. На базе такой модели можно выстроить целое здание современной теории, весьма напоминающей ньютоновскую механику. Безусловно, экономисты за редкими исключениями не считают, что люди в жизни и впрямь таковы, но полагают такое представление полезной абстракцией. После того, как абстрактно-дедуктивная механицистская модель хозяйства сформирована, в ее рамках оказывается возможным ставить практические задачи и решать их инженерным образом. Койл полагает, что большинство экономистов, занятых прикладным микроэкономическим анализом, вполне успешно справляются со своими обязанностями, а те проблемы, которые возникают, когда, например, макроэкономисты дают неверные прогнозы, объясняются особой сложностью их предмета. Вместе с тем она указывает на ряд обстоятельств, способных омрачить эту картину. Так, экономисты не всегда оказываются способны учесть то влияние, которые они сами оказывают на изучаемые ими явления. Экономическая наука не просто описывает мир с некоторой внешней по отношению к нему позиции, как астроном может описывать движение планет. Теории становятся основой для государственной политики, но затем люди в ответ на нее изменяют свое поведение. В других случаях мы можем столкнуться с так называемой перформативностью, названной по аналогии с теорией перформативных речевых актов Джона Остина. В его теории высказывание может не просто иметь цель донести до слушателя некоторую информацию о внешнем мире («Волга впадает в Каспийское море»), но само являться действием («Я приношу свои извинения»). В литературе описаны случаи, когда вследствие создания формулы цены для определенных активов эти цены действительно начинали вести себя в соответствии с предсказаниями теории, потому что экономические агенты начинали использовать ее в своих расчетах. Теории также могут порождать и самосбывающиеся пророчества. В отличие от астронома, где его влиянием на исследуемые объекты можно пренебречь, экономисты сами являются частью той системы, которую они описывают.
Еще одно отличие социального «винтика» от атомов из естественных наук заключается в том, что последние не вовлечены в этические проблемы. Экономисты долгое время стремились от них абстрагироваться, и вслед за Лайонелом Роббинсом и Милтоном Фридманом делили науку на позитивную, имеющую дело с миром как он есть, и нормативную, в явном виде апеллирующую к ценностям. Большинство экономистов сочтут, что занимаются строго объективным анализом, по поводу которого возможен консенсус, в то время как споры об этике следует оставить философам. Проблема состоит в том, что очень часто эти две составляющих невозможно разделить. Кроме того, в этом случае все, что не выражается непосредственно в количественном денежном эквиваленте (например, ценность биоразнообразия на планете), оказывается вне фокуса исследований. Ссылаясь на исследования философа Майкла Сэндела, Койл замечает, что в некоторых случаях мы бы не хотели, чтобы какие-то ценности (например, справедливость или равенство) приносились бы в жертву экономической эффективности, — мы предпочитаем, чтобы медицинскую помощь получали не только богатые или чтобы во время нехватки ресурсов хлеб могли себе позволить и бедняки, а не только те, кто готов за него больше заплатить.
Наконец, Койл замечает, что в самой науке уже давно существуют идеи, которые призваны обогатить и расширить модель человека. Это институциональная экономика, делающая значимым исторический контекст, исследования просоциальных и альтруистических мотивов, исследования идентичности и нестабильных предпочтений и многое другое. Перемен хотят и студенты, стремящиеся что-то узнать о таких актуальных вещах, как изменение климата или неравенство, и работодатели, желающие, чтобы нанимаемые ими выпускники имели не только технические навыки, но и могли разговаривать с неспециалистами или знали историю современной экономической мысли. Здесь мы подходим, пожалуй, к самому интересному моменту книги. Внимательный читатель мог заметить, что, несмотря на заявленное желание Койл дать ответ критикам с учетом современного состояния дисциплины, она зачастую обсуждает ровно те же самые претензии, что предъявлялись экономистам и двадцать, и пятьдесят, и даже сто лет назад. Причина этого противоречия проста: во-первых, даже если какие-то идеи уже пропали из современной науки, они продолжают оказывать свое влияние, так как те, кто принимает сейчас решения относительно экономической политики, получили образование много лет назад и сформировались в совершенно другой идейной обстановке. Во-вторых, образование в целом обладает достаточно большой инерцией, и передовые теории превращаются в университетскую программу первокурсников с большим запозданием. Без изменений процесса обучения критика изнутри или извне науки будет недостаточна для ее трансформации. Койл была одной из тех, кто работал над программой CORE Econ — коллективным проектом критически настроенных экономистов. Этот проект состоит из цикла учебных курсов, задающих плюралистическую теоретическую перспективу и не избегающих вопросов власти, неравенства, гендера, климатических изменений и т. д. Читатель вправе обрадоваться: после долгого обсуждения критических замечаний самого разного рода (как правило, уже обсуждавшихся в литературе ранее, зачастую — в более ясной и резкой форме) наконец можно перейти к некоторой позитивной программе. Можно надеяться, что разбросанные по книге многочисленные ссылки Койл на разного рода неортодоксальные теории (теория сложности Коландера, теории моральной экономики Боулза, агентно-ориентированное моделирование или коннекционизм) теперь окажутся упорядочены. К сожалению, здесь радость читателя оказывается преждевременной — про проект, которому она сама посвятила немало времени, рассказывается очень скудно. Конечно, сам факт знакомства читателя с действительно новой инициативой можно только приветствовать, но впечатление оказывается смазанным. Вопрос о том, сможет ли эта инициатива действительно оказать какое-либо положительное воздействие, также оказывается вне фокуса, особенно в современных условиях, когда теоретические курсы в образовательных программах во все большей степени замещаются техническими курсами для проведения анализа данных. Возможны ли в такой обстановке те перемены, за которые ратует Койл — «возвращение политической экономии», расширение взаимодействия с другими социальными науками и внимательное изучение классиков экономической мысли — большой вопрос, и здесь как раз сильно не хватает заявленной перспективы обсуждения проблем именно современного состояния (2020-х гг.) экономической дисциплины. Кажется, что в настоящий момент трендом является как раз обратная тенденция.
Вторая (и меньшая) часть книги Койл посвящена «чудищам», которых в давние времена картографы помещали в неразведанных областях карты. Под ними в данном случае подразумевается «стремительно развивающийся, социально обусловленный и неуправляемый феномен цифровой экономики — неизведанной территории, на которой остается еще много неизвестного». Будет тривиальностью сказать, что возникновение интернета, социальных сетей, машинного обучения и многих других современных феноменов значительно изменило нашу жизнь. Койл также справедливо замечает, что наша система статистики оказалась не готова к учету новой реальности — бесплатный звонок в мессенджере на другой конец земного шара улучшает нашу жизнь, однако не отражается в системе национальных счетов. Более того, «если производитель из Великобритании перешлет по электронной почте подрядчику в Малайзию свой проект, дизайн которого был разработан дизайн-студией, находящейся в Берлине, но имеющий зарегистрированный IP-адрес в Дублине, как будет рассчитываться вклад этой операции в ВВП и в статистике какой страны он будет отражен?» Вопросы, подобные этому, могут быть чрезвычайно сложны с технической точки зрения и важны, потому что без надежных данных вряд ли можно адекватно оценить влияние этих новых информационных явлений. Тем не менее с концептуальной точки зрения они не ставят под вопрос традиционные предпосылки экономической теории. С точки зрения Койл, важнее то, что в цифровой среде большое количество продуктов оказывается неконкурентным в потреблении: если я поделился с вами копией программы или данных, то мне они по-прежнему доступны — в отличие от случая, когда я бы поделился с вами обедом. Из-за этого в цифровой среде, как правило, действует возрастающая отдача от масштаба, что в сочетании с высокими постоянными издержками (например, издержками на разработку программы, которые можно счесть условно одинаковыми вне зависимости от того, проданы 1, 10 или 100 копий) приводит к тому, что на рынке начинают доминировать гигантские корпорации. Проблема заключается в том, что аналитический аппарат экономистов разработан главным образом для работы с функциями, имеющими постоянный или убывающий характер отдачи от масштаба. Кроме того, в цифровой среде усиливаются все сетевые эффекты: если вы зарегистрированы в социальной сети, то вы получаете тем больше потенциальной полезности, чем больше людей там есть, и наоборот. При наличии таких сетевых эффектов совсем незначительные исходные различия могут приобретать гигантское значение, что будет приводить к нелинейной динамике экономики, что потребует, в свою очередь, разработки совершенно новой теории.
Несмотря на то что картина, обрисованная Койл, выглядит достаточно узнаваемо, мы вправе задаться вопросом: в самом ли деле именно новые цифровые технологии являются тем главным фактором, который приведет к изменению экономической науки? Да, новые технологии имеют возрастающую отдачу от масштаба — но разве не имели ее старые, например производство стали или самолетов? Да, сетевые эффекты в современном мире более важны, чем раньше, но ведь и прежде полезность от телефонного аппарата увеличивалась по мере того, как к сети подключались все больше абонентов. Да, нелинейная динамика, по-видимому, стала более значимой, но и ее экономисты исследуют далеко не первый год (например, в рамках изучения финансовых рынков). Наблюдения о том, что в цифровом мире возникает много неконкурентных благ, тоже отнюдь не новы. Из-за этого вторая часть книги выглядит несколько искусственно присоединенной к первой, тем более что, как пишет автор, разные главы вырастали из разных статей или циклов лекций.
Книга Койл не всегда достигает заявленных целей — возможно, в силу двойственной позиции, из-за которой она одновременно нападает на экономическую теорию и защищает ее от лица экономистов. Тем не менее она может служить хорошим кратким введением в дебаты о текущем состоянии науки и затрагивает значительное количество критических аргументов о том, надежны ли все еще винтики наших объяснительных механизмов. Очень важным представляется и ее обращение к сравнительно редко затрагиваемой теме современного экономического образования, тем более — знакомство читателя с программой CORE Econ. Чудища, на которые указывает Койл, являются вполне реальными. Более того, они совсем не хотят сидеть в своих уголках карты, а захватывают в настоящее время все большие и большие территории, но виноваты в этом, надо признать, отнюдь не только экономисты.