Здесь, чтобы уйти: «Уход в Лес» Эрнста Юнгера
Борис Куприянов об одной из ключевых книг немецкого писателя
Русский перевод «Ухода в Лес» Эрнста Юнгера без преувеличения можно назвать одним из главных книжных событий текущего года. Издатель «Горького» Борис Куприянов — о том, почему это философское завещание немецкого писателя оказалось и удивительно своевременным, и вневременным.
Эрнст Юнгер. Уход в Лес. М.: Ад Маргинем, 2020. Перевод с немецкого Андрея Климентова
— На поле, разумеется, на поле: поле от лешего дальше и Богу милее, оно христианским потом полито, — поддержал спорщика козелковатый голос.
— Лес Богу ближе, лес в небо дыра, — едва дыша отвечал Сухой Мартын, — а против лешего у нас на сучьях пряжа развешана.
Николай Лесков, «На ножах»
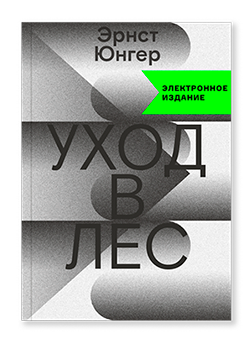
На интересную книгу можно написать рецензию множеством способов, на плохую — одним. В рецензии на достойную книгу можно говорить только о языке или только о структуре, ограничиваться пересказом изложенных в ней идей, говорить о контексте, породившем книгу, или влиянии книги на развитие мысли, «разоблачать» идеологию или классовые предрассудки автора. Способов и стилей множество. Форма и содержание рецензии определяются задачами рецензента и запросами публики.
«Уход в Лес» удобна для рассмотрения. Автор известен и признан. Множество поклонников, имеющих самые разные политические взгляды и художественные вкусы, высоко ценят Эрнста Юнгера и как писателя, и как мемуариста, и как мыслителя. Ни один рецензент не сможет навредить ему, прожившему 102 года и поставившему над собой столько экспериментов, что почти любое обвинение будет справедливо, как и похвала. Книга многозначна, каждый найдет в ней высказывания, рифмующиеся со своим состоянием или «временем». Но «Уход» — не праздное наблюдение, он точен в своем диагнозе. Работа Юнгера — прекрасная цель и для именитого критика, высказывающего свою концепцию понимания, и для новичка, разматывающего логическую пряжу каждого фрагмента.
Сама небольшая книга написана афористично, и кажется, что автор старался поместить в небольшой объем, всего 120 страниц в русском издании, максимальное количество наблюдений и мыслей.
«Уход в Лес» — не памфлет, не философский трактат, да и не проза. Пожалуй, можно назвать книгу манифестом, куда больше, однако, на манифест Юнгера походит роман «Эвмесвиль». В «Уходе» же есть логические построения к выводам, для манифестов несвойственные.
Пафос характерен для изысканных, может, поэтому и скучных, даже вычурных романов Юнгера — в дневниках, публицистике, философских работах его почти нет. Для «Ухода» пафос — одно из средств, но он не раздражает и не утомляет, тут он к месту. Лаконичность глав вполне напоминает немецкую традицию составления книг из афоризмов. Но ассоциация обманчива.
«Уход в Лес» состоит из 34 пронумерованных главок разной насыщенности, но крайне эмоционально окрашенных. Каждая глава посвящена одной теме, однако перед нами не калейдоскоп, а венок сонетов, каждый фрагмент вытекает из предыдущего, подготавливая логический и поэтический переход к следующему. В конце книги, в «обзоре», главы названы, но все же это не оглавление, а скорее квинтэссенция статей. Один из способов отрецензировать эту книгу — написать ее оглавление. Могу предположить, что оглавления анархиста, либерала, традиционалиста будут разными, но каждый из авторов найдет в книге рифмующееся с его мыслями и ценностями.
 Можно написать рецензию на основе ситуации, в которой писалась книга, уж больно благодатная тема. Однако, увлекшись контекстом, читатель может не заметить многое в книге, важнейшие наблюдения Юнгера останутся на периферии. Нельзя удержаться от соблазна напомнить: книга вышла в 1951 году, спустя всего два года после снятия запрета на публикацию уже немолодого офицера, проигравшего две мировые войны, разочарованного и отказавшегося от многих идей, в которые искренне верил. Проходя унизительную денацификацию, находясь фактически под домашним арестом, Юнгер, конечно, не знал, что ему суждено прожить 102 года и впереди еще много времени. Думаю, он не был уверен, что вообще сможет написать и опубликовать что-либо. Так что с большой степенью предположения можем сказать: перед нами книга, которая задумывалась как последняя, как завещание Эрнста Юнгера немецкому народу. Отсюда, возможно, и пафос, которого лишены другие его нехудожественные тексты. Конечно, это только мое предположение и фантазия.
Можно написать рецензию на основе ситуации, в которой писалась книга, уж больно благодатная тема. Однако, увлекшись контекстом, читатель может не заметить многое в книге, важнейшие наблюдения Юнгера останутся на периферии. Нельзя удержаться от соблазна напомнить: книга вышла в 1951 году, спустя всего два года после снятия запрета на публикацию уже немолодого офицера, проигравшего две мировые войны, разочарованного и отказавшегося от многих идей, в которые искренне верил. Проходя унизительную денацификацию, находясь фактически под домашним арестом, Юнгер, конечно, не знал, что ему суждено прожить 102 года и впереди еще много времени. Думаю, он не был уверен, что вообще сможет написать и опубликовать что-либо. Так что с большой степенью предположения можем сказать: перед нами книга, которая задумывалась как последняя, как завещание Эрнста Юнгера немецкому народу. Отсюда, возможно, и пафос, которого лишены другие его нехудожественные тексты. Конечно, это только мое предположение и фантазия.
Весьма условно «Уход в Лес» можно разбить на две неравные части. Первая, большая, состоит из наблюдений, метафор, выводов о послевоенном состоянии общества. Именно тут Юнгер формирует основные понятия и оппозиции книги. Вторая часть, да простит меня читатель за упрощение, содержит возможные пути выздоровления Германии и общества. Путь Ушедшего в Лес актуален для индивида, для одиночки, но для всего народа нереален, и это автор постоянно повторяет. Самому непримиримому оппоненту будет крайне интересно, как наблюдения и мысли первой части Юнгер органично использует для построения конкретных выводов второй.
«Уход в Лес» — не бегство от действительности, не органическое самоограничение «Уолдена» Генри Дэвида Торо. В заглавии Юнгер приводит понятие из истории Исландии. Если человек на острове совершал серьезное преступление, он изгонялся, объявлялся вне закона, «уходил в лес».
«Тому, кого объявляли вне закона во времена наших предков, были привычны и самостоятельное мышление, и трудная жизнь, и самовластные поступки. Он и в более поздние времена мог чувствовать себя достаточно сильным, чтобы смириться с изгнанием и быть самому себе не только защитником, врачом и судьей, но даже и священником».
Юнгер возлагает надежду на новый тип сознания и поведения, направленных не на политическое противоборство с системой, а на самостоятельный отказ одиночки, позже писатель назовет этот тип Анархом, берущим ответственность за себя и на себя.
Автор считает, что хорошей метафорой современности является «Титаник» — корабль, который неминуемо приближается к гибели, а пассажиры не только не замечают близкой трагедии, но и вовсе не воспринимают себя путешественниками: перемещаясь с комфортом через океан, они посетители светского бала. До крушения «Титаник» — символ победы цивилизации над природой. После крушения он — символ поражения, мании, страха, суетности. Технологический прогресс не освобождает личность, но может способствовать автоматизации, подчинению.
«Одиночка в обществе больше не подобен дереву в лесу, скорее он подобен пассажиру быстро передвигающегося транспорта, который может называться „Титаником”, а может и Левиафаном. Пока погода хороша, а виды приятны, он едва ли замечает то состояние минимальной свободы, в котором он оказался. Наоборот, наступает оптимизм, ощущение силы, навеянное скоростью передвижения».
«Лес — Корабль» — важнейшая оппозиция книги. Природное — рукотворное, незыблемое — движущееся, живое — мертвое. «Корабль означает временное, Лес — вневременное бытие. В нашу нигилистическую эпоху распространился обман зрения, из-за которого все движущееся кажется значительнее того, что покоится. На самом же деле все то, что сегодня развертывается благодаря своей технической мощи, все это есть лишь мимолетный отблеск из сокровищниц бытия».
![]() В самом начале книги Юнгер много говорит о процедуре выборов, которые стали совсем не демократическими. На нескольких страницах мыслитель делает несколько открытий, наблюдений, под которыми безоговорочно подпишется и любой выходивший на Болотную, и радикальный враг демократии. Юнгер отмечает парадокс: чем больше людей голосует за правящую власть, тем больше требуется полиции.
В самом начале книги Юнгер много говорит о процедуре выборов, которые стали совсем не демократическими. На нескольких страницах мыслитель делает несколько открытий, наблюдений, под которыми безоговорочно подпишется и любой выходивший на Болотную, и радикальный враг демократии. Юнгер отмечает парадокс: чем больше людей голосует за правящую власть, тем больше требуется полиции.
«Чтобы подобные отправные точки выявлять, отслеживать и контролировать, необходима полиция огромных размеров. Недоверие растет вместе с согласием. Чем больше доля хороших голосов приближается к ста процентам, тем больше будет число подозреваемых, поскольку предполагается, что сторонники сопротивления согласно очевидному статистическому правилу переходят в то ненаблюдаемое состояние, которое мы назвали Уходом в Лес. Отныне под наблюдением должен быть каждый. Слежка протягивает свои щупальца в каждый квартал, в каждый дом».
Юнгер предсказывает/формулирует бинарность современного мышления. Мы поставлены в состояние ложного выбора «или — или».
Юнгер отмечает несоответствие развитий технологий, глобальных задач и масштаба современных правителей. Ничтожность, измельчение личностей — не что иное, как уже знакомый парадокс «Лес — Корабль».
«Самое неприятное в данном спектакле — это сочетание человеческого ничтожества с чудовищной функциональной властью. Это мужи, перед которыми трепещут миллионы, от решений которых зависят миллионы. И все же нужно признать, что дух времени отобрал их абсолютно безупречно, если рассматривать его в одной из возможных перспектив — как прораба по сносу ветхих зданий».
В этой небольшой книге прежде всего поражает точность ее высказываний о медицине, избирательном праве, общественном расслоении, войне, переживании катастрофы. Но за сиюминутным, «современным», есть и фундаментальные рассуждения. Для автора этих строк особенно ценна как раз оппозиция «здесь и сейчас» / «современность».
В немецкой википедии туманно сформулировано: «Уход в Лес» — книга о «Wie verhält sich der Mensch angesichts und innerhalb der Katastrophe?», то есть примерно о том, «как ведет себя человек перед лицом и внутри катастрофы?». Катастрофа, подразумеваемая авторами статьи, — поражение Германии во Второй мировой войне. По моему мнению, катастрофа, которая действительно является темой книги, — кризис Эпохи Просвещения, Эпохи Модерна.
В русском языке, богатейшем и разнообразном, модерн ассоциируется скорее с архитектурным стилем или названием популярной юмористической передачи, чем с модернити/современностью/эпохой Модерна. Запутавшись в переводах и однокоренных словах, современность сейчас — это фьючерсы и стартапы, то есть будущее. Ритм нашей жизни, ее темп, ожидания направлены в будущие накопления и ипотеки, «сейчас» реализуется когда-то потом, в будущем, когда все будет передано, истрачено или выплачено. В нашем времени отсутствует сегодня, мы живем ради всегда не наступающего завтра. Юнгер манифестирует «Ушедшего в Лес» как живущего здесь и сейчас. До Эпохи Модерна, до торжества капитализма, построенного на приватизации времени, умении приумножать капитал при помощи физического свойства мира, не зависящего от человека, отождествления нынешнего момента с будущим не было. Люди жили «сейчас». Будущее — иной мир, горний. Юнгер борется с тиранией времени. Ушедший в Лес противостоит не обществу, но бунтует против «нашего» времени. Для меня это главная тема книги. Но уверен, что для каждого читателя ведущая тема может не совпадать с моим прочтением. Именно в этом особенность «Ухода в Лес» — многозначность, дарующая читателю множественный способ чтения и понимания, делает книгу подлинно важной здесь и сейчас.
«Страх принадлежит к числу симптомов нашего времени. Он стал тем более пугающим оттого, что принадлежит эпохе большой индивидуальной свободы, когда даже нужда, как ее, например, изображал Диккенс, стала почти неизвестной».