Здесь был субъект истории
О сборнике исследований советских эго-документов
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Эго-документы: Россия первой половины ХХ века в межисточниковых диалогах. Под ред. М. А. Литовской и Н. В. Суржиковой. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2021. Содержание
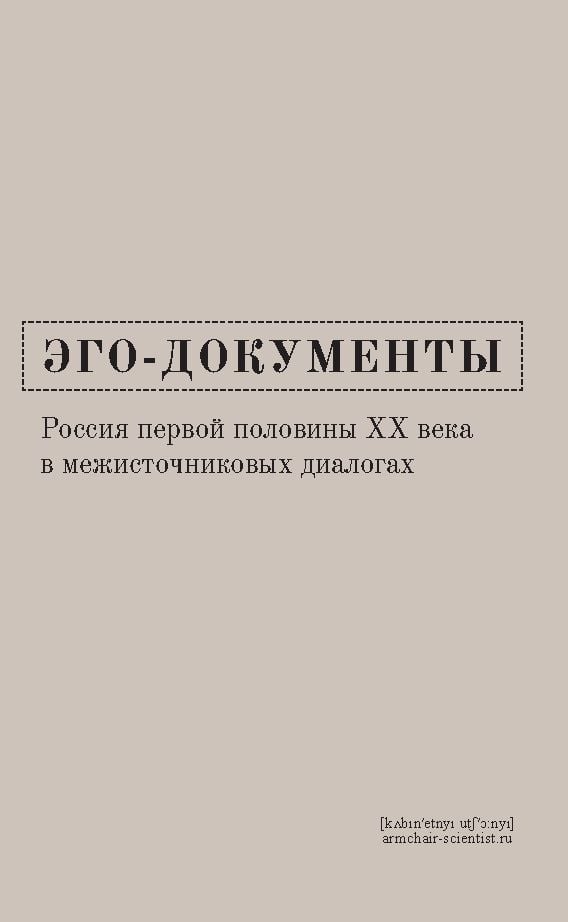 Основная задача, которую поставили перед собой редакторы этого сборника — представить многообразие как методов интерпретаций эго-документов (то есть личных свидетельств), так и самих этих источников. В трех разделах («Тексты», «Контексты» и «Подтексты») авторами статей анализируются дневники известных и «простых» людей, рисунки японских военнопленных, архивные фонды документов личного происхождения, партийные автобиографии, журналистские очерки, деревянные скульптуры и резюме. В отличие от «традиционной» историографии, где подобные источники нужны прежде всего для того, чтобы сопоставить их с другими или найти в них подтверждение какой-то общей тенденции, здесь личные свидетельства проблематизируются как таковые.
Основная задача, которую поставили перед собой редакторы этого сборника — представить многообразие как методов интерпретаций эго-документов (то есть личных свидетельств), так и самих этих источников. В трех разделах («Тексты», «Контексты» и «Подтексты») авторами статей анализируются дневники известных и «простых» людей, рисунки японских военнопленных, архивные фонды документов личного происхождения, партийные автобиографии, журналистские очерки, деревянные скульптуры и резюме. В отличие от «традиционной» историографии, где подобные источники нужны прежде всего для того, чтобы сопоставить их с другими или найти в них подтверждение какой-то общей тенденции, здесь личные свидетельства проблематизируются как таковые.
Попробуем прояснить, в чем здесь, собственно говоря, проблема. Ведь именно личное свидетельство обычно кажется наиболее твердой почвой для того, чтобы судить о прошлом: если уж мой дед сам видел эти события, то уж наверняка справедливее судит о них, чем те, кто об этом только читал; да и историки, начиная с Геродота, опирались на личные свидетельства. Продемонстрировать, почему эго-документы могут быть неоднозначны, проще всего на примере трех монологических жанров — дневника, мемуаров и автобиографии, написанной по запросу из госучреждения. Именно дневники на первый взгляд кажутся наиболее искренними и достоверными свидетельствами; читатель мемуаров, наверное, допускает, что автор мог что-то запамятовать; в случае же автобиографии, отправляемой в бюрократическую инстанцию, мы всегда отлично понимаем, что адресат этого текста влияет на его содержание не меньше, чем автор, а то и больше — задача автора здесь в том, чтобы предстать в нужном свете, вылепить из своей жизни то, что соответствует ожиданиям адресата; умолчания и даже прямая ложь в таком документе никого не удивят.
Но ведь и мемуарист, даже самый честный, во-первых, хотя бы интуитивно понимает, кто будет его читателем; во-вторых, имеет перед собой цель — чаще всего подвести итог своей жизни или определенного периода, поэтому, сознательно или нет, он будет подбирать факты таким образом, чтобы они к этому итогу подводили; свою прежнюю правду он будет описывать с высоты своей нынешней. Короче говоря, честность тут не противоречит наличию прагматики. Наконец, и дневники пишутся с определенными ожиданиями, исходя из определенных представлений о том, что важно вообще и что важно именно для дневникового текста, каким должен быть письменный язык и так далее. В 1930-х годах вести дневник рекомендовали в качестве средства самоконтроля и самосовершенствования — соответственно, у людей, воспринявших эту идею, получалось не что-нибудь, а хроника их достижений. Дайарист неизбежно ориентируется на какого-нибудь читателя — будь это он сам на склоне лет, бог или потомки.
На содержание эго-документа, таким образом, влияет множество факторов: бэкграунд автора, его представления о себе и о своем месте в мире, цели письма, представления об ожиданиях читателя, опасения, связанные с возможностью прочтения документа «не тем» адресатом, литературный контекст (книги, газеты и т. д., сформировавшие письменный язык автора). Большинство статей сборника посвящены как раз тому, чтобы разобраться с одним документом или корпусом документов одного автора в свете отношений вышеизложенных факторов. Так, статья О. Л. Лейбовича «Партийная автобиография: становление жанра в 1920–1930 гг.» показывает, как в условиях неустоявшегося канона партийной биографии авторы этих документов задействуют сразу несколько дискурсов: то представляют себя образцовыми большевиками, то — лояльными и практически аполитичными офицерами и т. д.
И. Л. Савкина анализирует дневник Г. Эфрона, сына Цветаевой, проведшего все детство в Европе, а затем попавшего в СССР. В Москве он быстро усвоил большевистские лексику, лозунги и ценности, в то время как его прежняя «европейская» идентичность подвергалась им самим критике, но при этом постоянно занимала его. Затем, в кризисной ситуации войны, эвакуации, самоубийства матери, когда «советская» идентичность не помогла ему влиться в советское общество и пережить эти события, она отошла на второй план, а затем уступила место идентичности «европейской». И. М. Савельева рассматривает то, в каких пропорциях в советских дневниках 1940-х годов соседствуют официальный военный нарратив и бытовые, личные, семейные вопросы. Попробуем, однако, вместо пересказа отдельных статей наметить некоторые общие выводы, к которым подводят читателя собранные в книге исследования.
Пожалуй, один из главных выводов, следующий сразу из нескольких статей, — разнородные дискурсы, происходящие из различных эпох, классов и сфер деятельности, сталкиваются не только в обществе, но и в отдельно взятом человеке. Авторы военных дневников из статьи Савельевой пользуются официальными клише, когда описывают положение на фронте, и совершенно деполитизированным языком — когда описывают свою частную жизнь, что контрастирует с 1930-ми годами, когда «по-большевистски» часто говорили вообще обо всем. «Их целью вовсе не являлось опровержение официального нарратива, хорошо им известного и в основном для них приемлемого. Их целью было выстраивание личного нарратива как основы для поддержания собственной субъектности и силы духа в экстремальных обстоятельствах, осмысление происходящего с помощью карандаша и бумаги».
В тех же 1940-х годах провинциальный рабочий и «образцовый советский гражданин» Дмитриев, герой статьи А. Н. Кабацкова, взращенный культурой 1930-х, не только усвоил, но и воспроизводил соответствующий дискурс в качестве журналиста заводской газеты; этими же словами он размышлял и про себя о возвышенных вещах вроде защиты отечества. В то же время, когда ему нужно описать свои махинации с продовольствием, идеологический язык уступает бытовому и криминальному: «„Толкучий рынок“ перевели к нам на площадь, и я сейчас частенько там отираюсь. Комбинирую с хлебом. Беру талончики, а продаю хлеб. Кое-что от этого мне остается. А иначе сейчас не проживешь».
Архивистка Рожкова, чей дневник рассматривают в своей статье Е. Ю. Лебеденко и Н. В. Суржикова, хотя и привыкла «говорить по-большевистски», политику воспринимает поверхностно, в основном направляя свое внимание на другое. «Стенгазета, политинформация, демонстрация, политучеба, соцобязательства, субботник, годовой план, политпросветотдел — упоминания всей этой советской атрибутики рутинно-обыденно присутствовали практически на каждой странице», — пишут авторы статьи; при этом содержание дневника Рожковой — ее индивидуальная реализация в труде и любви. Постоянно используя даже такой сугубо советский концепт, как «культурность», она, вероятно, вкладывает в него собственные коннотации, обусловленные ее дореволюционной биографией: «„некрестьянское“ и даже непролетарское происхождение, дом с прислугой, „старорежимная“ гимназия, балетный класс, Брюсовские курсы и более десяти лет проживания в столичной Москве». Чем для нее был консервативный поворот в сталинской культурной политике? Развитием «социалистической», «бесклассовой» культуры или возможностью восстановить свой дореволюционный социальный статус?
Все это касается того, как дневники помогают раскрыть советскую субъективность, понять многообразие советских представлений об индивиде и его месте в истории. Еще один важнейший вопрос, рассматривающийся в книге — не о том, как идентичность автора оставляет следы в его текстах, а, напротив, как создание своего следа преобразует историческую физиономию человека. Наиболее примечательна в этом отношении статья М. В. Ромашовой «„Мой многострадальный дневник“: как эго-документ становится архивным документом (случай пермской общественницы Валентины Соколовой)». Значительную часть своей жизни Соколова не рассматривала себя как актора исторического процесса, чьи записи могут послужить источником для исследователей. Уже на пенсии, узнав о том, что в журнальных статьях об истории пермского комсомола периодически фигурирует ее имя, она решила собрать свой собственный архив, оставить воспоминания о комсомоле 1920-х годов, деятельности женотдела и других событиях своей жизни, прежде мыслившихся ей как рядовые, а теперь перешедших в категорию общественно важных: «Валентина Григорьевна превратила систематизацию своего домашнего архива и передачу его в ГАПО в последнее значительное активистское дело своей жизни, в ходе которого ей удалось „пересобрать“ личную историю: из беспартийной пенсионерки-общественницы она превратилась в субъект истории, достойный иметь „фонд вечного хранения“. С середины 1970-х гг. она увлеченно занималась обработкой домашнего архива и агитировала других». Примечательно, что своими действиями она не только сама пересмотрела свою роль в историческом процессе, не только побудила к этому своих современников, но и способствовала тому, что понятие и критерии исторической значимости были пересмотрены работниками архивов, ставших охотнее принимать документы «простых» людей. А это, в свою очередь, изменило картину эпохи, которую получают, работая с этими архивами, современные историки.
Следующая статья этого раздела рассказывает о том, как непрофессиональные биографы или историки-любители, исследующие историю своей семьи или родного края, вплетают в получившийся нарратив новые мотивы, значимые уже лично для них — и таким образом «границы между документами, а следовательно, и между авто- и биографией, размываются, поскольку все превращается в один большой (авто)биографический проект, к которому на последнем этапе подключается профессиональный историк». Таким образом, эго-документы не только свидетельствуют о динамике субъективности их автора и не только вмешиваются в нее, но и способны как бы перебросить свою преобразующую энергию на тех, кто их унаследует и попробует продолжить. Здесь кажется уместным вспомнить об одном из главных героев книги Хелльбека «Революция от первого лица» Степане Подлубном. Этот рабочий из раскулаченных крестьян, чьи дневники 1930-х годов для историка стали широкими воротами во внутренний мир человека сталинской эпохи, в 1980-х создал их отредактированную и откомментированную версию, и именно ее намеревался сдать в архив. Зачем? В 1980-х годах он понял, что в молодости был жертвой сталинизма (что правда), в то время как в своих записях первой половины 1930-х он предстает его энтузиастом (что тоже правда). Если историка сталинизма интересуют идеи, которые занимали Подлубного в молодости, то его самого — итог, к которому он пришел в конце жизни, и с этой позиции он решил «продолжить» и пересобрать свою память, свои свидетельства об эпохе 1930-х.
Разумеется, это далеко не полный перечень проблем, поднятых в книге. Многие из них касаются специальных вопросов историографии или конкретных исторических сюжетов. При этом исторические и филологические интерпретации источников личного происхождения особенно интересны тем, что такие документы читают и создают абсолютно все люди, владеющие грамотой: если вы никогда не вели дневников, то по крайней мере заполняли анкеты при приеме на работу, переписывались в мессенджерах, персонализировали личные страницы в соцсетях, читали надписи на открытках, полученных старшими родственниками десятки лет назад. Вооружившись методами, подробно описанными в статьях из этой книги, любой человек может увидеть в вездесущих источниках намного больше, чем чисто функциональные и, казалось бы, до тошноты предсказуемые тексты.