Завораживающий сумрак
Анатолий Рясов о романной трилогии Шарля Фердинана Рамю
Дьявол приходит в швейцарскую деревню, жизнь ее обитателей, кровельщиков и охотников, наполнена таинственным смыслом, а читатель узнает обо всем этом и погружается в холодный мрак: по просьбе «Горького» Анатолий Рясов рассказывает о романной трилогии Шарля Фердинана Рамю. Три небольшие книжки, «Царствование злого духа» (1917), «Небесная твердь» (1921) и «Смерть повсюду» (1922), недавно вышли в издательстве libra в переводе А. Воинова, и мы рекомендуем вам обязательно обратить внимание на творчество этого необычного писателя.
У переводов Шарля Фердинана Рамю на русский язык почти столетняя история: его роман «Затравленный» был издан в СССР в 1927 году — еще при жизни писателя, правда с фамилией Рамюз на обложке, что положило начало вариативности в транскрипции его имени. Сегодня на русский переведены десять его романов, несколько стихотворений, рассказов и эссе. И тем не менее швейцарский писатель, чьи тексты увлекали Вальзера, Жида, Стравинского, как будто бы остается абсолютно непрочитанным. Развернутые высказывания о его произведениях не так уж просто найти (хотя чуть больше десятилетия назад в Москве даже состоялась конференция, посвященная творчеству Рамю). Не так давно в издательстве «libra» вышли сразу три романа: «Царствование злого духа», «Небесная твердь» и «Смерть повсюду», и, кажется, это грандиозное событие грозит пройти почти незамеченным.
Впрочем, для такого молчания есть существенные причины, связанные скорее не с крохотным тиражом издания, а с не поддающимся расшифровке авторским языком. Тексты Рамю действительно написаны таким образом, словно препятствуют попыткам сказать о них что-то внятное. Почти в каждом из его романов с героями, вроде бы вполне способными противостоять жизненным сложностям, происходят непонятные, жуткие события. Так и читатель, сталкиваясь со внешне ясным, конвенциональным повествованием, постепенно соскальзывает в неуютный, холодный, но отчего-то завораживающий сумрак.

Фото: readymag.com
Что же мешает прочесть тексты Рамю как всего лишь истории о повседневной жизни швейцарских крестьян? Прежде всего, конечно, нарочитая мрачность. Светлые минуты (даже если они растягиваются почти на весь роман, как в «Небесной тверди»), как правило, существуют здесь только как едва прогретая солнечными лучами зыбкая поверхность горного озера, под которой медленно движется иная, смутная, почти ледяная жизнь. И от присутствия холода не защищают ни деревенские обычаи, ни церковь, ни прочные семейные узы. Характерным приемом Рамю оказывается вторжение в размеренную деревенскую жизнь непредвиденного события. Иногда это приход незнакомца или незнакомки (в романе «Царствование злого духа» в роли такого чужака выступает дьявол).
Здесь раз за разом приоткрывается темная изнанка жизни. И в сгущающемся гуле не так-то просто расслышать противоположную мысль, наиболее явно сформулированную Рамю в романе «Красота на земле»: «Мир вокруг был прекрасен, хотя иной раз и требовалось немало времени, чтобы понять это». Свет здесь никогда не гаснет до конца, сохраняя как минимум возможность дальнейшего угасания, но при этом нет никакой уверенности в том, что тление не обернется ослепительной вспышкой.
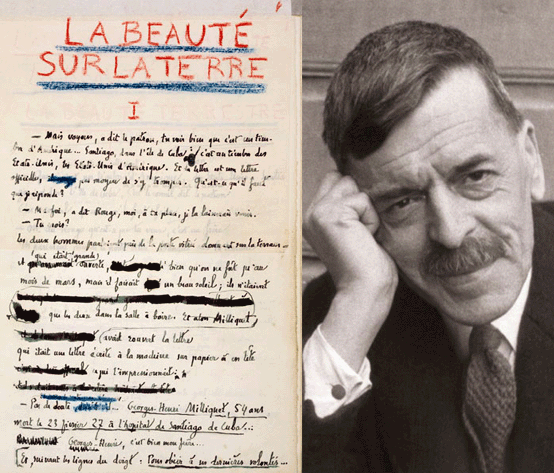 Рамю и рукопись романа «Красота на земле»
Рамю и рукопись романа «Красота на земле»Эти нарочито простые сюжеты пронизаны онтологической проблематикой: герои могут думать, что сходятся или конфликтуют друг с другом, а на самом деле раз за разом сталкиваются не с обществом, а с миром. В предисловии В. Большакова к советскому изданию текстов Рамю было весьма точно сформулировано: все эти пряхи, кровельщики, пастушки, охотники, лодочники — все они ощущают, что их жизнь наполнена таинственным смыслом, который они не в состоянии выразить. Но дело вовсе не в том, что происходящее легко расколдовывается со стороны (скажем, образованным читателем) — нет, речь о смысле, который в принципе нельзя ухватить, что отнюдь не отменяет его грандиозности.
Стиль Рамю по-настоящему завораживает, в классическое рассказывание историй здесь врастает странный, рваный синтаксис. Такая же темнота окутывает героев Ласло Краснахоркаи или даже Антуана Володина — но с той разницей, что их романы написаны на полвека позже. Рамю, если, конечно, это выражение уместно, еще менее объясним. Здесь невозможно разобраться, в какой момент прочный, уверенный в себе роман XIX века заходит на территорию модернистских языковых экспериментов. Довольно странное чувство: сродни тем моментам, когда интонации и тембр голоса оказываются важнее значения произносимых слов. Или вернее — это прибавочное значение существенно влияет на смысл произносимого, приоткрывает его «вторую», куда менее ясную сторону. Литературный голос Рамю говорит нечто большее, чем нам поначалу слышится. Он всегда шире первоначального «сообщения». И еще этот голос словно бы никогда не контролирует полностью собственные интонации.

Шарль Фердинан Рамю держит таксу
Фото: courtesy Université de Lausanne
Если прочитать один-два романа Рамю, его стиль уже не спутаешь ни с чьим другим. Некоторые фразы словно обращены не к читателю, а сказаны куда-то «в сторону». Так, в книге «Великий страх в горах», с которого, возможно, стоит начинать знакомство с этим автором, в середине многих предложений возникает нечто похожее на драматические ремарки: «Жозеф становился все меньше и меньше, и было видно (если, конечно, кто-нибудь мог бы его увидеть), как он идет вверх и исчезает из виду». События, разворачивающиеся в прошлом, нередко может пересечь предложение в настоящем времени, в романе «Красота на земле» такой ломающей логику фразой оказывается эта: «Где-то там, наверху, по-прежнему гомонят птицы». Точно так же в долгом безличном повествовании «Небесной тверди» внезапно появляется первое лицо:
«На севере над стеной гор вставала стена из дыма. Все, что было серым, стало бурым, желтое — рыжим, зеленое — черным. Это было в стороне Анпрейз и там, где Прапио. И вот уже нет ни Анпрейз, ни Прапио. Волнение нарастало. И уже давно, не правда ли? Сколько они себя помнили, никогда больше не было ни единого облачка: теперь все время небо окрашивалось ровной синевой, словно только что покрашенная стена, и тени верно лежали возле стволов, как стрелки на циферблате, и, когда я вытягивал руку, сбоку от меня появлялась ее тень, будто вырастала еще рука…»
Самые простые фразы обрастают здесь странными уточнениями, которые выглядят бессознательными печатями на рельефе этих напоминающих гравюры текстов, написанных словно на одном дыхании. Да, эти романы (если, конечно, это романы: «Смерть повсюду» вполне можно прочесть как эссе) кажутся откровениями, продиктованными непоколебимой уверенностью автора — ощущение, конечно, абсолютно иллюзорное, учитывая страсть Рамю к бесконечному редактированию своих произведений. Ну и что, ведь это не повод отказываться от самого ощущения.