Юродство проповеди, или Возвращение Владимира Шарова
Майя Кучерская — о сборнике статей, посвященных памяти одного из самых недооцененных авторов нашего времени
Владимир Шаров. По ту сторону истории. М.: Новое литературное обозрение, 2020. Под редакцией Марка Липовецкого и Анастасии де Ля Фортель
1
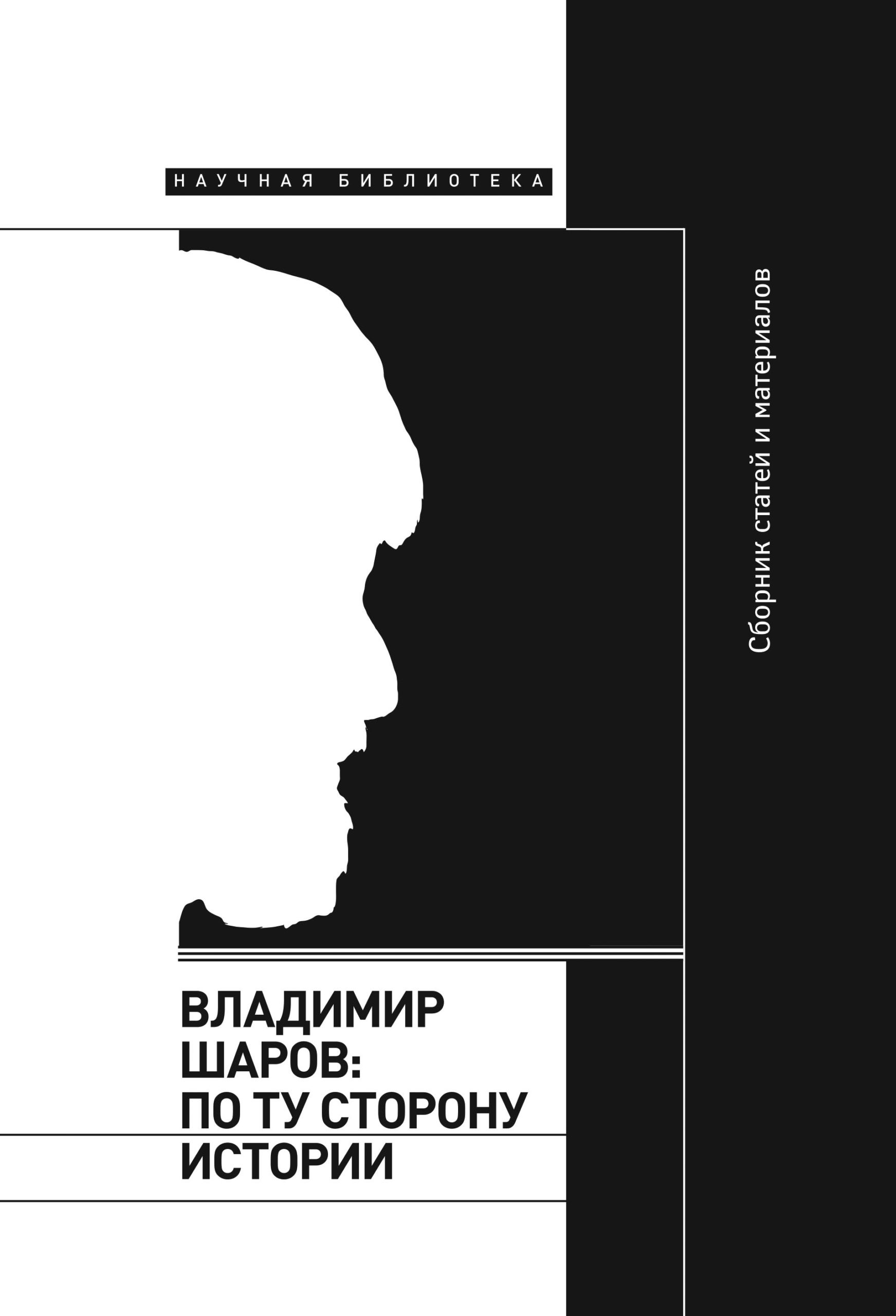 Этот сборник — памятник одному из самых диковинных, ни на кого не похожих русских писателей, Владимиру Шарову.
Этот сборник — памятник одному из самых диковинных, ни на кого не похожих русских писателей, Владимиру Шарову.
Он наш современник, точнее мы — его, но с нами его уж нет, Владимир Шаров умер 17 августа 2018 года от лимфомы. Его очевидную недооцененность при жизни отчасти и призвана залатать эта 700-страничная книга воспоминаний, а также критических и научных статей. Этот огромный том был собран почти мгновенно, в течение года. Так быстро столь обширные труды складываются лишь при условии, если герой многими горячо любим и многим искренне интересен.
Компания тех, кому оказалось необходимо вспоминать о нем и думать о его мирах, сложилась многонациональной и пестрой: в нее вошли и коллеги Владимира Шарова по писательскому цеху, и критики, и переводчики, и филологи разных стран и даже континентов. Несмотря на обилие и разнообразие голосов, хор получился стройным, а коллективный портрет писателя — цельным.
2
Книгу открывают воспоминания Ольги Дунаевской, супруги Владимира Шарова, ставшей его добрым ангелом. Это она привозила ему, безбытному, не знавшему, где в доме лежат вилки, суп, когда он сочинял в отдельной квартире очередной роман. Она перепечатывала его тексты, написанные от руки, ужасным, надо сказать, почерком, она вычитывала потом верстки книг и вела обширную деловую переписку. Владимир Шаров не пользовался ни компьютером, ни даже, кажется, печатной машинкой, предпочитая писать от руки, потому что «бумага теплая». Электронной почты, не говоря об аккаунтах в соцсетях, у него тоже, конечно, не было.
Ольга Дунаевская стала его связным с этим не во всем уютным для него миром и сознательно встала в его тень. Лишь бы получше увидели и разглядели его. Очень похоже, что без ее деятельной помощи Шарова не только не увидели бы и не разглядели, велика вероятность, что и книги его, даже если бы они были написаны, до нас не дошли.
 Ольга Дунаевская
Ольга Дунаевская
Воспоминания Ольги Дунаевской начинаются с портрета тогда еще будущего ее мужа, совсем юного, 19-летнего: «Володя был высокий, давно не стриженный, в рваном свитере и красивых иностранных туфлях с острыми носами. Стоял февраль — туфли были летние. Одна бровь у него была черная, другая — белая, и белая прядь волос с той же стороны». Инопланетянин, заглянувший к землянам в гости, оглядывающий их с нежной улыбкой, — таким он был с ранних лет. Таким, подхватив заданный Ольгой Дунаевской тон (человечный и точный), вспоминают его и другие. Косматый бородач с веселыми глазами, которого иногда принимали за священника, а однажды позвали даже возглавить общину пятидесятников, был вместе с тем страстным игроком в бридж и футбол, обожал плавать и пускаться в невинные, но безнадежные авантюры, например по сбору клюквы на болоте, в которое и провалился рассказчик этой истории, режиссер Владимир Мирзоев. А еще многие — и героические составители этого сборника, филологи Марк Липовецкий и Анастасия де Ля Фортель, и писатели Евгений Водолазкин и Наталья Громова, и другие — дружно отмечают в Шарове дар внимательного и теплого собеседника.
Каждый вносит в его портрет свою лепту, описывая разные грани личности любимого друга. И лишь пробирающее до костей послание Михаила Шишкина Володе выводит универсальную формулу шаровского космоса.
Писателей связывала общая юность (у Шарова, впрочем, уже молодость, он старше Шишкина на девять лет) — в первую очередь встречи на полуподпольных «литературных четвергах», во время которых молодые авторы слушали и обсуждали тексты друг друга. Шишкин пишет о том, что с Шаровым его объединяли и похожие надежды в то безвоздушное время. Ведь их главной мечте — стать писателем и объездить весь мир — не суждено было сбыться: все равно «никогда не напечатают» и «никуда не выпустят».
Михаил Шишкин подбирает к литературному и человеческому пути Владимира Шарова две метафоры, два ключа — корабль и бегун. Бегуны — это они, молодые люди конца 1970-х — начала 1980-х. Как когда-то бегуны-старообрядцы, о которых рассказывается в романе «Возвращение в Египет», Шаров тоже бежал «от власти, государства, ненависти и лжи», скрывался в домах единомышленников и на корабле собственного воображения, то есть в собственных книгах, предлагающих совершенно новое видение российской истории. «На твоей карте, — пишет Шишкин, — все как на ладони: Москва — новый Иерусалим, Русь — новый Израиль, русские — избранный народ. Эту карту населяют особые люди. Они ищут истину. Они ищут веру, не столь важно какую, в Иегову или Маркса, но вера должна быть настоящей, огромной, обжигающей».
Ради всеобщего спасения герои Шарова готовы на любые жертвы, Шишкин раскрывает смысл их упрямого стремления к «святой истине»: «Поколение идет за поколением по твоей карте и каждый раз промахивается мимо домика с аистом на крыше и проваливается в спасение души: за царя и отечество, наше дело правое, все для фронта все для победы, крымнаш, вставание с колен и т. д. и т. п. У спасения души заготовлено много аватаров».
Михаил Шишкин обозначает и другое, очень ценное для понимания прозы Владимира Шаров обстоятельство: не только физической, но и духовной родиной его книг был СССР. Потому что его романный мир родился из сопротивления навязываемой мертвечине и лжи. И не так уж существенно, что в основном он строился уже после того, как глиняные ноги колосса подломились, — в 1991 году, когда Шаров-романист дебютировал, советская власть доживала последние дни. Напряженный диалог с советской историей, то ироничный, то издевательский, то предельно серьезный — идеологический каркас его произведений.
Так, простым карандашом, на листке, вырванном из альбома, Шишкин в несколько штрихов нарисовал карту вселенной Владимира Шарова.
В сущности, по ней движутся и остальные авторы сборника, не только его друзья и близкие, но и исследователи его прозы — от первого, мемуарного раздела ко второму, посвященному историософии и философии Шарова, а затем и к третьему, исследующему поэтику и эстетику его прозы.
3
Как хорошо знают все, кто в нее заглядывал, не только постижение и анализ, но даже и просто чтение ее — труд. Составители недаром именуют круг поклонников Шарова «закрытым клубом». Входной билет: принятие того, что потоки самых невероятных небылиц будут сливаться с реальными историческими фактами, доподлинно известные события — с мифическими, а сами романы окажутся не сводимы ни к одной из существующих жанровых разновидностей, ни к одному направлению. Это и не историческое фэнтези, и не альтернативная история, и не постмодернизм. Это что-то совсем другое и свое.
Ну, действительно. В одном из самых знаменитых романов, «Репетиции» (1992), Шаров, например, пишет о патриархе Никоне в Ново-Иерусалимском монастыре, который нанимает крестьян из окрестных сел для разыгрывания Пасхальной мистерии, или евангельских страстей Христовых, во время которой на землю должен явиться Сам Христос. Он так и не приходит. Тем не менее актеры, а затем их наследники продолжают репетиции, вплоть до ХХ века, пока одни участники будущего действа, играющие евреев, не расстреливают других — христиан под руководством апостола Петра — за то, что Бог их оставил. В романе «До и во время» (1993) описывается третье перерождение писательницы Жермены де Сталь, которая оказывается матерью Иосифа Сталина. В «Воскрешении Лазаря» (2002) воскрешен именно что Лазарь, правда Каганович; его везут на открытой платформе сквозь всю страну, чтобы он принес покаяние за злодеяния чекистов. В «Будьте как дети» (2008) Ленин планирует крестовый поход детей-беспризорников в Святую землю. В «Возвращении в Египет» (2013) наследник и тезка Гоголя, Коля, должен дописать второй и третий том «Мертвых душ», чтобы спасти мир.
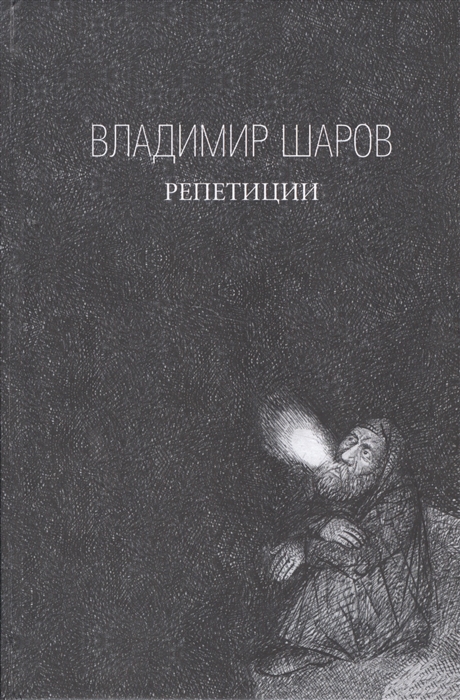 Что значат сии сны? В чем смысл этой странной историософии? Не злонамеренный ли китч и не кощунство ли это, как показалось после публикации его третьего романа, «До и во время», критикам «Нового мира»? На эти вопросы в той или иной мере стараются ответить все авторы сборника. Каждый раздел — вклад в этот общий ответ, в итоге сложившийся, несмотря на разнобой методов и языков описаний, на диво непротиворечивым.
Что значат сии сны? В чем смысл этой странной историософии? Не злонамеренный ли китч и не кощунство ли это, как показалось после публикации его третьего романа, «До и во время», критикам «Нового мира»? На эти вопросы в той или иной мере стараются ответить все авторы сборника. Каждый раздел — вклад в этот общий ответ, в итоге сложившийся, несмотря на разнобой методов и языков описаний, на диво непротиворечивым.
4
Шарову-историку посвящены, в первую очередь, статьи Михаила Эпштейна, Александра Эткинда, Марка Липовецкого и Александра Дмитриева. Все они упоминают о том, что интерес Шарова к русской революции и сталинизму прямо связан с историей его семьи: два его деда и бабушка погибли в сталинском терроре, другая бабушка пять лет отсидела в лагере. Отца Шарова, писателя Александра Шарова, в 1950-е годы постоянно навещали возвращавшиеся из ГУЛАГа друзья, которые что-то рассказывали. «Эти рассказы были страшными, отрывистыми и непонятными, они не складывались в единую картину. Шаров уже в детстве видел, что иногда эти люди говорили прямую неправду, создавали себе выдуманные биографии», — отмечает Александр Эткинд. Его мысль легко продолжить: возможно, именно эти разговоры и привели к тому, что в основе всех романов Шарова лежит соединение фантазии и правды. Эткинд предлагает новый остроумный термин для этого сочетания, определяя метод Шарова как «магический историзм».
Формула Марка Липовецкого, описывающая суть исканий Шарова, иная: «теология террора». По мнению исследователя, в поиске объяснений революции и террора Шаров обращается к мифологическому контексту, просто потому что рациональным образом объяснить весь этот кровавый ужас невозможно. В итоге Шаров «деконструирует русские религиозные нарративы», в которых видит движущие силы русской истории, пародирует их и «создает оксюморонный, почти невозможный феномен — постмодернистскую метафизику русской истории». Что и снимает, по мнению исследователя, вопрос о том, считал ли Шаров себя постмодернистом. (Публично писатель не раз заявлял, что нет.)
Параллельно с описанием несущих идеологических конструкций и методов Владимира Шарова авторы сборника касаются и тех, кто на него повлиял: позднего Льва Толстого, о котором пишет Кэрил Эмерсон; конечно, с юности любимого Шаровым Андрея Платонова и его героев с их богоискательством — им посвящены статьи Эдуарда Надточия и Александра Дмитриева, парадоксально срифмовавшего «красного» автора «Котлована» и «белого» историка Сергея Платонова, труды которого Шаров анализировал и с которыми отчасти полемизировал в кандидатской диссертации. Наконец, многие касаются и безусловного влияния на шаровские построения философии «общего дела» Николая Федорова.
 В разделе, посвященном поэтике романов Шарова, также сказано немало увлекательного. Идеологическую природу прозы Шарова, его захваченность идеями, а не формой вскрывает наблюдение Дмитрия Бавильского: «Сюжет у Шарова всегда имеет прикладной, служебный характер. И по большому счету ему совершенно все равно, о чем (о ком) писать. Сюжет в данном случае необходим для развернутой, подробной демонстрации столь излюбленной писателем логики развития коллективных тел». Кстати, изображение «коллективных тел», иначе говоря, развернутые коллективные сцены, в описании которых Шарову в XXI веке, кажется, не было равных, еще предстоит описать и исследовать.
В разделе, посвященном поэтике романов Шарова, также сказано немало увлекательного. Идеологическую природу прозы Шарова, его захваченность идеями, а не формой вскрывает наблюдение Дмитрия Бавильского: «Сюжет у Шарова всегда имеет прикладной, служебный характер. И по большому счету ему совершенно все равно, о чем (о ком) писать. Сюжет в данном случае необходим для развернутой, подробной демонстрации столь излюбленной писателем логики развития коллективных тел». Кстати, изображение «коллективных тел», иначе говоря, развернутые коллективные сцены, в описании которых Шарову в XXI веке, кажется, не было равных, еще предстоит описать и исследовать.
Отдельное внимание в разделе о поэтике уделено и нарративным стратегиям писателя. Вслед за Дмитрием Бавильским Александр Горбенко справедливо указывает на то, что многие романы Шарова складываются не столько из событий, сколько из рассказов об этих событиях, и «рассказ» доминирует над «показом». Амина Гариэлова уточняет, что нарратив, выработанный Шаровым для повествования о терроре, опирается и на летописно-проповедническую традицию.
Анастасия де Ля Фортель, описывая структуру постижения истории Шаровым, метафорически обозначает ее как «ход коня»: «Шаров исследует все боковые ветви и маршруты истории» — метафора оправдана еще и тем, что Шаров был страстным игроком, в шахматы в том числе. Де Ля Фортель подбирает еще одно название для шаровского творческого метода — «идеалистический мимесис». Что означает: его занимает не подлинная историчность и реальность «гектаров, урожаев, финансовых потоков, военных походов, мирных трактовок», как сам писатель выразился в одном из интервью, а реальность человеческих судеб и «антропологически-экзистенциальной сути человека». Всерьез ему важна лишь «реальная история помыслов, намерений, вер», как он сам говорил, а потому искренне считал себя «реалистом». Разумеется, это был реализм в духе символистского «a realibus ad realiora», от реального к реальнейшему. О том, что прямая репрезентация исторических событий в его прозе невозможна, но именно это позволяет ей обнажить «метаисторическую правду», пишет и Брэдли А. Горски.
Во многом именно жадный интерес к «помыслам, намерениям и верам» и объясняет ключевую особенность поэтики Шарова: каждый новый его роман «генетически и генеалогически связан с предыдущим». Несколько огрубляя, можно сказать, что Шаров всю жизнь писал один длинный и в итоге многотомный текст, от книги к книге двигаясь к постижению любимого собрания загадок и вопросов русской истории.
Ключевой из них: как такое возможно? Кровь, массовые убийства, террор, уничтожение миллионов? И это в стране, веками жившей вдохновением учения Христа о любви? На страницах сборника не раз мелькает слово «юродство», и не только в связи с феноменом русского юродства, занимавшего воображение Шарова (вспомним хотя бы Дусю из «Будьте как дети»), но и по отношению к нему самому. Шаров «юродиво переписывает историю», отмечает художник Александр Смирнов. «Юродиво», потому что иначе не выскажешь истину. Это то самое «юродство проповеди», о котором говорил апостол Павел и которое одно может спасти верующих. Не исключено, что фантазии о воскресшем Кагановиче или Ленине, возглавившем крестовый детский поход, — это указание на заведомую необъяснимость чудовищных преступлений советской власти с позиций разума, сделанное в духе той напраслины, которую возводили на себя некоторые заключенные. Беспощадной абсурдностью своих признаний они надеялись открыть глаза следователю, убедить его: обвинения следствия — полная чушь, подобное решительно невозможно, и, значит, заключенный невиновен.
5
Завершив чтение этой книги, читатель останется наедине с множеством потрясений и открытий, лежащих в области психологии, русской истории, филологии, современной изящной словесности. Но, быть может, главный урок, который прорастает сквозь этот своеобразный учебник писательской жизни — урок свободы. Владимир Шаров сочинял свои книги без оглядки, ничем не чувствуя себя связанным. Ни литературными условностями, ни представлениями о том, что нынче в моде. Автора, более удаленного от всякого рода конъюнктуры и литературного конвенциализма, трудно себе вообразить. Итогом такого его выбора — а это все равно был выбор, он хотел быть таким и таким был, хотел играть именно в эту игру — оказался триумф, победа над косностью читателей, которые все равно увлеклись его построениями; над ограниченностью инструментария исследователей, которые задумались и изобрели для описания прозы Шарова сразу несколько новых, вполне работающих терминов; над узостью оценок литературного и критического цеха — постепенно писатель получил признание, став лауреатом нескольких литературных премий. Как видим, победил он и смерть: масштаб его художественных и исторических прозрений не был оценен в полной мере вовремя, однако возвращение Владимира Шарова в актуальный литературный контекст уже началось.
700-страничный том, составленный в его честь, — лучшее доказательство этой безусловной победы и весьма внушительный ее трофей.