«Языковые единицы суть мыслящие бактерии»
Три поэтические новинки декабря
Вторая книга Богдана Агриса, современный роман взросления по мотивам Стесихора и прекарная постирония во втором сборнике Дмитрия Герчикова. О самых интересных поэтических книгах, вышедших в декабре, рассказывает Лев Оборин.
Богдан Агрис. Паутина повилика. М.: Русский Гулливер, 2021
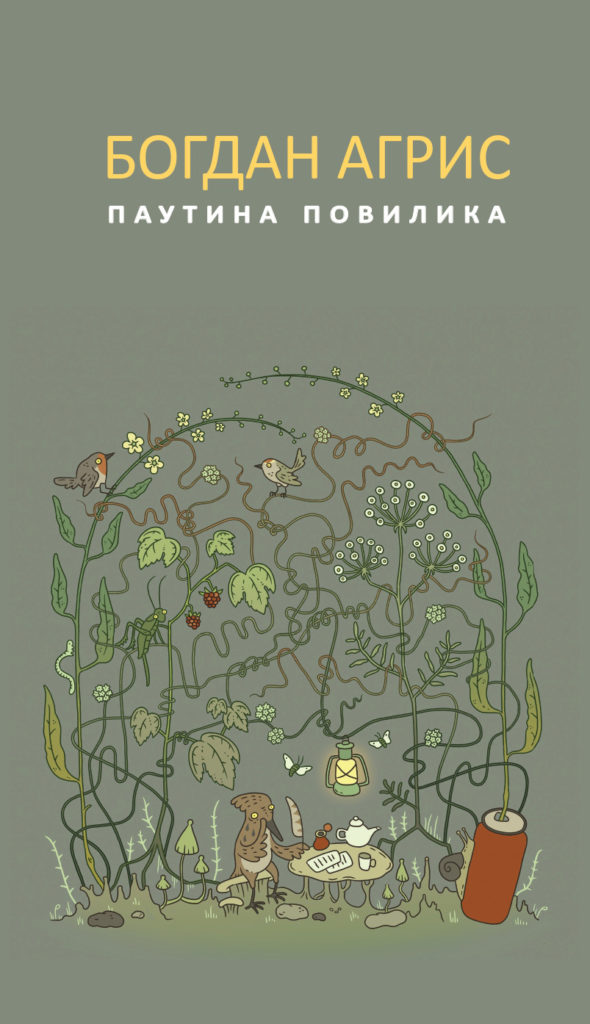 Существует довольно невнятное понятие «поздний дебют» — так говорят об авторах, начавших писать или публиковаться уже в зрелом возрасте. В предисловии к книге Богдана Агриса Валерий Шубинский так и указывает: «этот поэт должен был дебютировать одновременно с Игорем Булатовским, Андреем Поляковым, Марией Степановой, Полиной Барсковой — а дебютировал четверть века спустя вместе с теми, кто на четверть века моложе». В случае Агриса можно было бы дополнительно проблематизировать это понятие: его стихи — «поздние» для той «метафизической» волны, которая возникла в 1990-е и звучала тише большинства других. Но они совпадают с вектором работы поколения молодых авторов, которых критики порой называют неоконсерваторами — на том основании, что социальная повестка в их текстах почти не играет роли и они ориентируются на классическую просодию. Это, как часто бывает в критике, упрощение, ведущее к поляризации, — но нельзя сказать, что с обратной стороны нет встречного движения: теоретические тексты Агриса в журнале «Кварта» (который он основал вместе с Шубинским) и полемические посты в его фейсбуке как бы сами ложатся в сценарий конфликта. Агрис объявляет о неисчерпанности модернистской программы и резко выключает типовую советскую поэзию из эйдоса поэзии вообще — на антропологических, скажем так, основаниях.
Существует довольно невнятное понятие «поздний дебют» — так говорят об авторах, начавших писать или публиковаться уже в зрелом возрасте. В предисловии к книге Богдана Агриса Валерий Шубинский так и указывает: «этот поэт должен был дебютировать одновременно с Игорем Булатовским, Андреем Поляковым, Марией Степановой, Полиной Барсковой — а дебютировал четверть века спустя вместе с теми, кто на четверть века моложе». В случае Агриса можно было бы дополнительно проблематизировать это понятие: его стихи — «поздние» для той «метафизической» волны, которая возникла в 1990-е и звучала тише большинства других. Но они совпадают с вектором работы поколения молодых авторов, которых критики порой называют неоконсерваторами — на том основании, что социальная повестка в их текстах почти не играет роли и они ориентируются на классическую просодию. Это, как часто бывает в критике, упрощение, ведущее к поляризации, — но нельзя сказать, что с обратной стороны нет встречного движения: теоретические тексты Агриса в журнале «Кварта» (который он основал вместе с Шубинским) и полемические посты в его фейсбуке как бы сами ложатся в сценарий конфликта. Агрис объявляет о неисчерпанности модернистской программы и резко выключает типовую советскую поэзию из эйдоса поэзии вообще — на антропологических, скажем так, основаниях.
Обо всем этом не стоило бы подробно говорить в рецензии на книгу стихов, но в тоне Агриса чувствуется повелительность, свойственная модерну тяга к режиссуре. Вот и его вторая книга «Паутина повилика», посвященная Александру Блоку, открывается разъяснением: что это такое и как это читать. «Это именно что книга, с внутренним сюжетом, а не просто сборник стихотворений... сюжет книги — путешествие по семи (или скольким там?) мирам, скольжение сквозь них по упомянутой в первом стихотворении древо-реке». В ходе этого путешествия герой книги преодолевает внутренний раскол, навеянный миром-лесом, в котором началось путешествие; это влияет и на эмоциональный строй книги. Покинутый «тиходом», который в начале книги вошел «в свой укромный подпочвенный рост», этот рост завершает. «Странник обрел свой дом. Завершается книга своего рода эсхатологической кодой, в которой звучит надежда на когда-нибудь-грядущее воссоединение и примирение».
Написать, описать такое — амбициозная задача, требующая глубокого понимания того, как работает мифология: Агрис, обладая этим пониманием, сплетает на разных уровнях, от фонетического до сюжетного, образы мифов Ирландии, Израиля, русского фольклора, а заодно и отдает дань авторскому мифотворчеству XX века, от Блока и Сологуба до Шварц и Сосноры. Появляется, например, Звезда-молочай, сродная, кажется, сологубовской звезде Маир, так же облаготворяющая мир своим светом.
Подобный сплав вызывает мысли об учениях нью-эйдж, в которых ощущение сопричастности тайне подчас важнее самого откровения. Для поэзии такое сопоставление более естественно и действенно, чем может показаться (в отличие, например, от политики и даже стиля жизни). Сюжет в книге Агриса разнесен по отдельным стихотворениям, но в определенный момент за ними действительно начинает проглядывать достаточно универсальная схема. Скажем, в середине книги следуют стихи, которые можно интерпретировать как реплики на пути героя в загробный мир, прямо по Кэмпбеллу.
где днесь рекомые ряды
и зрелые ады
где встали строгие суды
и долгие пруды
где плиоценна и льняна
снует мерещится луна
едва-едва проведена
обметом бороды
там голосует шар земной
на ложной окружной
там закоулок затяжной
завис над вечевой княжной
и вензель выточен резной
над золотой дрезной
Такие тексты производят впечатление упоения собственным звучанием, некой в самом деле резной барочной роскоши. Но при всей многочисленности образов здесь не так уж много образных категорий. Все они — из области основополагающей мифологической символики. Лес, луна, животные-тотемы, например лиса — а особенно много здесь любимых Агрисом птиц, вестниц и воплощенных душ. «Вдруг на меня сойдет мой воробьиный сон», «имя давно потерялось там, / где хорошо клестам», «коноплянка играла / в опрокинь времена», «егда курсирует сова / вовнутрь живого зодиака».
о ластонька моя лети
где на помине авентин
во росские рябины
во порски голубины
Стихотворению, из которого взята последняя цитата, предпослан эпиграф из Олега Юрьева; Юрьев — поэт для Агриса исключительно важный, Агрис перенимает у него уверенность, что в современных условиях может и должна работать возвышенная, архаичная, порой жречески-темная лексика:
о проводы еще мне далеки
о разве спрохвала с ленцой покато
мне элизейски эти мотыльки
во померанце майского заката
В то же время усложненность связывается с сюжетом: ее больше там, где герой преодолевает трудности, меньше — там, где он близок к цели. Цель же эта, возможно, состоит в признании того, что человеческая телеология к природному величию слабо применима:
срезы кольчатого дыма,
скосы контурных небес.
сосен выплеснутых мимо
малахитовый отвес.
воздух — матовый мицелий —
не набух еще пока,
и стоят без всякой цели
винтовые облака.
<…>
вон уже свивает пряха
световое волокно.
вяхирь, вихревой мой вяхирь, —
возвращайся на окно.
звезд просыпанное просо,
сосен бережный закон…
это крыл твоих набросок,
неспокойных испокон.
Птица, в конце концов, просто поет; проявлением птичьего облика на лице поющего героя и завершается книга Агриса — сообщающая меж тем трелями и коленцами, что гармония возможна, но, чтобы постичь ее, необходимо переворачивающее жизнь внутреннее усилие.
Энн Карсон. Автобиография красного. М.: No Kidding Press, 2021. Перевод с английского Юлии Серебренниковой под ред. Cергея Бондарькова
 Если Богдан Агрис представляет нам мифологию per se, то для Энн Карсон не самый избитый мифологический сюжет о Геракле и Герионе — повод для более прикладной работы. В «Автобиографии красного», написанной в 1998 году, канадская поэтесса, филолог-классик по образованию, отталкивается от истории десятого подвига Геракла и сохранившейся лишь в крошечных фрагментах поэмы Стесихора «Герионеида». От Стесихора почти ничего не осталось — тем сильнее обрывки написанного поэтом, которого античные читатели называли достойным наследником Гомера, дразнят воображение. «Фрагменты „Гериониды“ читаются так, как будто Стесихор написал большую поэму, потом порвал ее на кусочки и закопал в коробке вместе с текстами песен, заметками к лекциям и мясными обрезками», — пишет Карсон в предисловии к своей книге. Она явно отсылает к куда более модерному — дадаистскому — способу создания произведений. Мифологический материал в «Автобиографии красного» тоже осовременивается: сюжет становится канвой для романа взросления (некоторые рецензенты говорят о ЛГБТ-young-adult-романе), и взрослеет здесь персонаж, окруженный вполне узнаваемыми, современными реалиями, даром что зовут его Герион.
Если Богдан Агрис представляет нам мифологию per se, то для Энн Карсон не самый избитый мифологический сюжет о Геракле и Герионе — повод для более прикладной работы. В «Автобиографии красного», написанной в 1998 году, канадская поэтесса, филолог-классик по образованию, отталкивается от истории десятого подвига Геракла и сохранившейся лишь в крошечных фрагментах поэмы Стесихора «Герионеида». От Стесихора почти ничего не осталось — тем сильнее обрывки написанного поэтом, которого античные читатели называли достойным наследником Гомера, дразнят воображение. «Фрагменты „Гериониды“ читаются так, как будто Стесихор написал большую поэму, потом порвал ее на кусочки и закопал в коробке вместе с текстами песен, заметками к лекциям и мясными обрезками», — пишет Карсон в предисловии к своей книге. Она явно отсылает к куда более модерному — дадаистскому — способу создания произведений. Мифологический материал в «Автобиографии красного» тоже осовременивается: сюжет становится канвой для романа взросления (некоторые рецензенты говорят о ЛГБТ-young-adult-романе), и взрослеет здесь персонаж, окруженный вполне узнаваемыми, современными реалиями, даром что зовут его Герион.
Само смещение внимания с главного персонажа (Геракла) на второстепенного тоже выглядит как современный прием: сегодня сплошь и рядом читаешь о ремейках классических произведений «от лица» не-главных героев, как правило тех, кому эпоха оригинала отводила пассивную роль. Но здесь как раз Карсон следует за античностью. Ведь и Стесихор посвятил свою поэму Гериону, и сохранившийся текст завершается дивной развернутой метафорой: «Голова Гериона склонилася долу, / Как мак, отцветая, когда он / Вдруг потеряет красу свою нежную, / Разом все лепестки осыпая...» (пер. Б. Ярхо). Карсон перерабатывает этот текст в духе Гертруды Стайн:
Герион прошел свой красный ум из конца в конец и ответил Нет
Это было убийство И разрываемый зрелищем полегшего стада
Все мои дорогие сказал Герион И вот теперь я
<…>
Стрела означает убийство Она разделила череп Гериона как расческа
Склонила шею мальчика набок Под странным медленным углом Так
Цветок мака бесчестится под плетью Нагого ветра
Стесихор, пишет Карсон, освободил прилагательные, позволил им не следовать риторическим канонам гомеровской поэзии. Тем разительнее настойчивое повторение эпитета «красный». «Красным» назывался закатный остров Гериона Эрифия, красными были коровы, которых похитил у него Геракл, переправившись на остров в ладье солнца-Гелиоса. Весь миф говорит о красном как о красивом: красный — это выделяющийся и угасающий, сам цвет предопределяет трагизм сюжета. Прикладывая этот сюжет к истории юноши, который в детстве подвергался сексуальному насилию со стороны брата, а затем влюбился в другого юношу (Геракла), Карсон демонстрирует неизбывность античности, ее обреченность возвращению, ее способность пробуждаться в современности. Природа напоминает об этом не хуже человеческих отношений:
Вдоль нижнего края фотографии
Герион разглядел скелеты сосен,
уничтоженных падавшим на них пеплом. «Красное терпение». Фотография,
на неподвижной поверхности которой
спрессованы пятнадцать разных моментов времени, девятьсот секунд
летящих вверх бомб,
и падающего вниз пепла
и гибнущих сосен.
Речь о фотографии вулкана, сделанной бабушкой Геракла: катастрофа, описанная в книге, отсылает к реальному извержению вулкана Мон-Пеле, уничтожившего город Сен-Пьер на Мартинике, а через него — к извержению Везувия. Вулкан — притягательный символ разрушительной страсти, и именно у метафорического вулкана Карсон оставляет своих героев. Впрочем, помимо страсти, Карсон описывает еще множество состояний — сложных, пограничных, характерных для одинокого молодого человека. «Жизнь Гериона вошла в онемелый период, застыла между языком и вкусом. / Он устроился в местную библиотеку расставлять по полкам государственные документы. / <...> Герион мерцал / между рядами как шарик ртути и щелкал выключателями». «Автобиография красного» устроена как чередование всполохов и интермедий, что, в конечном счете, тоже можно привязать к античной традиции, только уже театральной. Еще один ключевой мотив книги Карсон — фотография, опять же задействующая вспышку, но позволяющая укротить, остановить кипящее время.
Возможно, стоит предложить неортодоксальное, даже несколько брутальное толкование этой книги: она не столько о современных людях и их античных прототипах, сколько о попытках самого поэта соединить зону своих живейших интересов с современностью. Не факт, что для этого пригоднее всего эпос: скажем, у Луизы Глик такой синтез очень убедителен при работе с лирикой, пейзажем, впечатлением.
Дмитрий Герчиков. День рождения времени. СПб.: Порядок слов, 2021
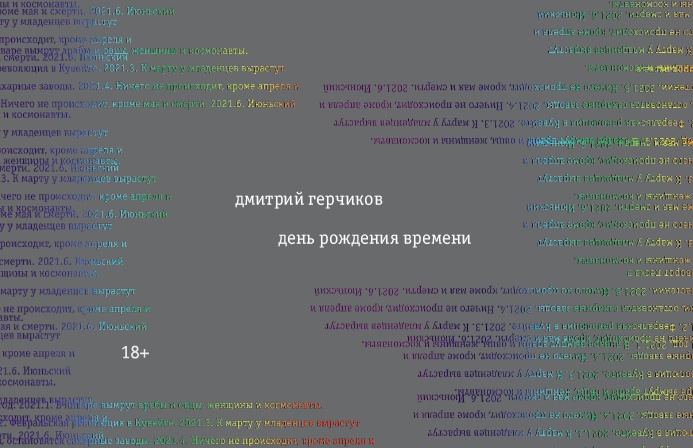 Современные российские законы существенно усложнили рецензирование поэзии — а с другой стороны, создали место для волнующей недоговоренности. Вторая книга Дмитрия Герчикова открывается строками «если бы у меня, любимая, была, например, вагина, / ты бы... ей свое, допустим, лицо» — что сразу настраивает внимательного читателя современной русской поэзии на определенное восприятие, но ожидания будут обмануты. Герчиков, как и в дебютной книге «Make Poetry Great Again», перемешивает формальные приемы, сталкивает поп-культуру, интернет-коммуникацию и политику, работает с готовыми текстами и сериализмом.
Современные российские законы существенно усложнили рецензирование поэзии — а с другой стороны, создали место для волнующей недоговоренности. Вторая книга Дмитрия Герчикова открывается строками «если бы у меня, любимая, была, например, вагина, / ты бы... ей свое, допустим, лицо» — что сразу настраивает внимательного читателя современной русской поэзии на определенное восприятие, но ожидания будут обмануты. Герчиков, как и в дебютной книге «Make Poetry Great Again», перемешивает формальные приемы, сталкивает поп-культуру, интернет-коммуникацию и политику, работает с готовыми текстами и сериализмом.
И все же новая книга более упорядоченна — и более убедительна, — чем предыдущая. Во многом потому, что во главе угла здесь — лирическое «я», занятое постироничным самоопределением. Назовем два, пожалуй, самых характерных текста. Во-первых, любовное «стихотворение» с рефренами «Кем ты была в нулевых?» и «Чьей он войны солдат?» / «Чьей мы войны солдаты?». Вопрошание прерывает и прозаический рассказ о знакомстве с будущей женой, и смоделированные отрывки из «типичных» стихов «пожилого поэта-метареалиста», написанные из перспективы «мира, слабо напоминающего наш» (стилизация в этих отрывках, разумеется, нарочитая, приводящая на ум стихотворение редактора герчиковской книги Никиты Сунгатова про ветерана второй чеченской войны, который «взялся писать актуальные стихи»). В финале «стихотворения» эта разноголосица сливается в единое послание, утверждающее историческую память и проживание исторического момента — как личное, делимое на двоих переживание:
В тот день я увидел тебя впервые. Увидел под голоса Беловежского соглашения и скрежет танков в Чехословакии, эхо Карабахского конфликта и дождь Чернобыльской катастрофы, звук костылей и блеск пуль, летящих сквозь нас. Граница — это прикосновение. Любовь — это стихотворение. Государство касается государства, закон касается человека, губы касаются живота.
Сколько раз мы коснемся друг друга — столько времена расколются на части. Беспроводные сети опутают воздух, жидкие механизмы усовершенствуют кровь, информация станет сладкой как миндальное молоко, но мы будем прикасаться к друг другу, пока доносятся взрывы на границе между девяностыми и нулевыми, жизнью и смертью, родиной и русским языком.
Второй показательный текст — «Резюме», построенное в самом деле как резюме. Автобиографический герой Герчиков Дмитрий Александрович, 1996 г. р., перечисляет несколько работ, ни на одной из которых он долго не задержался, и к каждой дает пояснения: «Книжный магазин „Фаланстер на Винзаводе“ / (июнь 2017 — май 2018) // Должность: Продавец-администратор // На самом деле эта должность называется пердеть на стуле. Если бы работодатели официально ввели данную формулировку, то соискатель сразу бы понимал, что обещает ему вакансия кассира в независимом кинотеатре или в камерном выставочном зале»; «Должность: модератор // Модератор — модное слово для слова экскурсовод», и так далее.
Легко увидеть здесь автокомментарий к опыту современного прекария, но этот автокомментарий превращен в перформанс. Эффект новых стихов Герчикова — именно скачок из игрового в серьезное и обратно, причем не всегда в пределах одного текста. Между этими подходами, отношениями — отчетливый разрыв, и чтобы его преодолеть, всякий раз требуется усилие, скрытое за экстравагантностью конкретных решений. По отношению к социальной и политической поэтике, например, Дарьи Серенко или Георгия Мартиросяна тексты Герчикова смещены в сторону приговского «мерцания», амбивалентности авторской позиции — на что и намекает имя-отчество «Дмитрий Александрович», умно вынесенное в начало текста (а что, действительно Дмитрий Александрович, действительно так пишут в начале резюме, не подкопаешься). Читателю «Дня рождения времени» — в том числе того текста, который дал книге заглавие, — приходится постоянно делать на это поправку и напоминать себе, что прямая простота констатации («Она говорит, что беременна, пока мы смотрим видео про дворец Путина. <...> Сегодня день митинга, сегодня ты сказала мне, что беременна») становится поэзией, как раз когда смещается на шаг, на слой, на странность дальше публицистики: «Как мы объясним нашей будущей дочери или сыну, почему есть те, кто выходит на митинги, и те кто ломает им спины? <...> // Кто переползает из пластиковой чашки в фарфоровую, смеясь и скупая все наши архивы? Что мы ответим нашим детям, когда они спросят, куда ветер унес нас?»
Это работает и с другими приемами — в том числе с опять же приговским расщеплением привычных слов или с имитацией речи нейросетей. Финальный текст «Заговоры будущего» устроен как каталог предсказаний, поначалу напоминающий твиттер «Нейромедуза»: «2022.2. Луна, Бетельгейзе и Южный крест станут гражданами Российской Федерации», «2022.9. В осеннем Кемерово рабочие потребуют хлеба, но дыхание призовет голос к ответу». Постепенно бормотание инфосферы сводится к лапидарной эсхатологии, как будто нейросети скормили одновременно «Записки сумасшедшего» и «Логико-философский трактат»: «2030.7. Математические аксиомы суть осы и капли. 2030.08. Языковые единицы суть мыслящие бактерии. 2030.09. Сентябрь не наступил. 2030.10. Октябрь не наступил. 2030.11. Год закончился в августе». Посмотрим, как оно будет — и далек ли будет следующий прыжок.