Я житель полночи
Комментарий к комментарию Бланшо на «Бытие и время» Хайдеггера
Заметки Мориса Бланшо о Хайдеггере, которые выходят на русском языке отдельными частями в издательстве Des Esseintes Press, представляют собой что-то вроде схоластического комментария, задача которого — не создать некую прибавочную стоимость, а прояснить сказанное комментируемым автором. По просьбе «Горького» об этой книге рассказывает Андрей Гелианов.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Морис Бланшо. Заметки к Хайдеггеру. I. Бытие и время. М.: Des Esseintes Press, 2025. Перевод с французского и комментарии Виктора Лапицкого
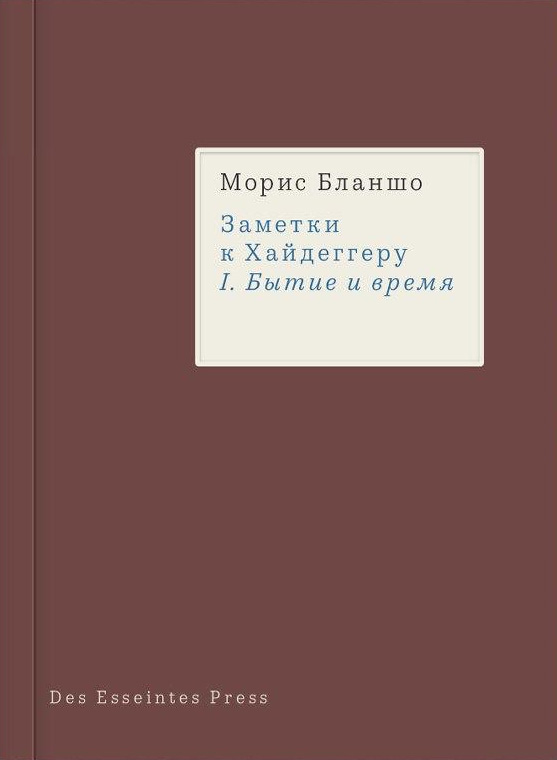
О формате
Прежде всего нужно обозначить, что именно перед нами. «Книга» Бланшо — машинописные заметки начала 1950-х, не предназначавшиеся для публикации, — представляет собой достаточно редкий в наше время жанр схоластического комментария (наподобие рассуждений Ибн Сины и Ибн Рушда на полях трактата Аристотеля «О душе»).
То есть Бланшо не полемизирует с Хайдеггером, не дает на него метакомментарий из своего времени и своей оптики, не пытается его как-то переосмыслить — нет, один мыслитель вдумчиво и уважительно читает другого. Нельзя даже сказать, что комментарии Бланшо как-то развивают мысль Хайдеггера — скорее они ее проясняют и переформулируют в процессе перевода на французский более простыми (точными?) словами.
В этом отношении Бланшо работает куда тоньше самого Хайдеггера, который тоже комментировал (как правило, объемом не меньше тома) всех подряд, от Платона и Парменида до Гегеля и Ницше — но у него (пожалуй, за вычетом интереснейшего курса лекций по Гераклиту 1943 года, за окном союзники только что разбомбили Рурскую плотину с тысячами гражданских жертв) всегда получалось своим прикосновением, точно у агента Смита, лишь превращать комментируемых в отражение самого себя, что особенно не добавляло смысла оригинальным текстам.
Впрочем, так как философ-модернист Хайдеггер, при всем уважении к его учителю Гуссерлю, был создателем именно оригинального философского дискурса, хоть и всего о двух главных мыслях (одна, про дазайн, совершенно оригинальная, другая, про технэ, носилась в то время в воздухе) — которых, впрочем, хватило на сто томов, — перед ним стояли совершенно другие проблемы и риски, чем перед его лучшим читателем Бланшо.
В процессе чтения-перевода-комментирования (которые тут слиты в один неразрывный процесс, тоже сама по себе интересная и редкая форма литературы) Бланшо впитывает и в точности воспроизводит как специфический хайдеггерианский язык, так и образ мышления — нередко, если не обращать внимания на специфические пометки, и вовсе трудно отделить оригинальную цитату из «Бытия и времени» (кто, впрочем, помнит это сочинение наизусть?) от продолжения ее темы, которое начинает вести искушенный французский ум.
К Бланшо, в общем, никаких вопросов нет — однако они есть к издателю исходника. Г-н Этьен Пина, подготовивший объемное оригинальное издание 2023 года, которое Des Esseintes Press решили нарезать для продажи на небольшие «тетрадки», уже во втором абзаце предисловия сообщает читателю, что «Бланшо... вовсе не был хайдеггерианцем», что может изрядно озадачить с порога (еще раз, слова Пина предваряют 900-страничный том комментариев Бланшо на Хайдеггера — хорош «не хайдеггерианец»!).
Пина повторяет, что «Бланшо не был хайдеггерианцем» далее в небольшом предисловии еще два раза, точно ритуальную формулу оберега, и даже делает — на основе весьма мутного частного письма Бланшо (в котором идет речь, например, о том, что смерть — это, «несомненно, не возможность невозможности, а невозможность всякой возможности») — амбициозное предположение, что француз «хайдеггеризирует свой язык... чтобы подорвать язык самого Хайдеггера изнутри». После чего следует невозмутимое перечисление активностей Бланшо, как тот страстно читал, переводил и изучал Хайдеггера на протяжении нескольких десятилетий (видимо, все это ради «подрыва изнутри»).
Эти утверждения не только до абсурда комичны, но и попросту заведомо неверны — Бланшо, безусловно, был хайдеггерианцем, причем одним из самых проницательных и талантливых (и, что важно, не впавшим в итоге в мистику, как Владимир Бибихин и некоторые другие персонажи).
На всем собственно философском (хотя тут больше подходит «эссеистическом») творчестве Бланшо, несомненно, лежит глубокая печать влияния Хайдеггера. Открываем, например, «Литературу и право на смерть», опубликованную в 1948 году, накануне «феноменологической декады», в ходе которой Бланшо погрузится в немецкого шамана уже на водолазную глубину, и пытаемся убедить себя, что Хайдеггер тут ни при чем: «речь обнаруживает, что обязана своим смыслом не тому, что существует, но своей отстраненности от существования, и подвергается соблазну сохранять эту отстраненность, достигать негации внутри себя самой и делать из ничто — все. Если, говоря о вещах, мы рассказываем о них только то, что делает из них ничто, тогда ничего не говорить и есть единственная надежда все сказать».
Или почти через пятьдесят лет написанная «Анакруза» о стихах Луи-Рене Дефоре (1992): «если у него счастье, несчастье родиться всегда подспудно присутствует в существе, которое в своем развитии полагает, что от него удаляется, так что рождение, продолжаясь без конца, всегда пребывает по ту сторону, то можно полагать, что молчание infans всегда остается прецессией речи, подобно тому как небытие не упраздняется в бытии, даже если и кажется, что они сопрягаются в жутком раскачивании ИМЕЕТСЯ (бытие полагает, что завладевает небытием, но рождение упорствует — Остинато — в своем небытии, так и не выдав тайну)».
Или практически любое художественное произведение Бланшо, в первую очередь, конечно, «Ожидание, забвение» (1962): «Смерть, рассматриваемая как ожидаемое событие, неспособна положить ожиданию конец. Ожидание превращает факт умирания в нечто, достигнуть чего, чтобы перестать ждать, недостаточно. Именно ожидание и позволяет нам знать, что смерть не может быть ожидаемой. Тот, кто живет в ожидании, видит, что жизнь приходит к нему как пустота ожидания, а ожидание — как пустота по ту сторону жизни. Переменчивая зыбкость этих двух движений есть отныне пространство ожидания. На каждом шагу ты здесь и, однако же, по ту сторону. Но, поскольку достигаешь этого потусторонья не посредством смерти, его ждешь и не достигаешь, не зная о его существенной черте: его можно достичь только в ожидании. Когда есть ожидание, ничто не ждется. В движении ожидания смерть уже не может быть ожидаемой», и так далее — логика, вокабуляр и смысловое наполнение всех этих пассажей демонстрируют совершенно очевидное (любому, кто читал больше одной книги Хайдеггера) влияние Хайдеггера (в последнем примере, по-видимому, в первую очередь курса лекций «Основные понятия метафизики», французский перевод которого вышел в 1958-м).
Впрочем, с фактологией никто, оказывается, и не спорит, ведь даже само дальнейшее предисловие г-на Пина наглядно опровергает его же смелое утверждение про Бланшо как «не хайдеггерианца» (как и послесловие переводчика Лапицкого, справедливо указывающего на то, что Пина полностью игнорирует давно изученный специалистами факт колоссального влияния Хайдеггера на художественное творчество Бланшо — более того, вообще об этом творчестве не упоминает).
Так зачем же тогда это утверждение сделано?
Хайдеггер*
В принципе ответ на этот вопрос для нас, читателей 2020-х, очевиден. Хайдеггер в восприятии интеллектуального дискурса сегодня что-то постыдное и неловкое, ближе к экстремистской организации, чем к человеку; он требует обязательной звездочки-сноски, непременного дисклеймера о непричастности (вроде того, что делает Пина). Родная кафедра немца в университете Фрайбурга давно переделана в благопристойное логово «аналитической философии», а человека, который сегодня неиронично и без оговорок штудирует Хайдеггера, в приличное философское общество сегодня вообще не пустят — то есть этически и культурно путь к воспроизводству новых хайдеггерианцев закрыт (да и сама тема всяческого экзистенциализма, как отмечает в финальной книге Фредрик Джеймисон, по мнению новых интеллектуалов, «устарела и неактуальна»). Интересно, конечно, кто же тогда его читает, кто скупает тиражи, печатаемые Des Esseintes Press, «Алетейей», «Владимиром Далем» и Институтом Гайдара?
Первая волна радикальной критики Хайдеггера (как человека, но метонимически и логически — и его философии) началась еще в 1960-е, став оборотной стороной его возвращения в публичный интеллектуальный дискурс. Тогда только-только вышедший из долгого затворничества философ — до 1951 года Хайдеггеру было запрещено преподавать как «попутчику» (Mitläufer) нацизма — приобрел во Франции невиданную популярность, за которую в первую очередь надо благодарить Жан-Поля Сартра, ну и без невидимой деятельности Мориса Бланшо, можно полагать, не обошлось. Все в той или иной мере знали, что Хайдеггер имел отношение к НСДАП, но интернета не было и информация доносилась искаженными обрывками, что давало многим поклонникам немца повод ее игнорировать.
Среди тех, кто добивался истины (которую он понимал как публичное покаяние философа), был в том числе завороженный Хайдеггером поэт Пауль Целан, который, правда, помешался на этой теме и нашел в итоге не истину, а водяную могилу (см. спорную и во многом мифологемную, но бесценную с точки зрения фактологии книгу Джеймса К. Лиона An Unresolved Conversation, где, в частности, Хайдеггер, встретившись в третий и последний раз с Целаном, отмечает с тревогой, что тот «очень болен»).
Примерно в то же время, в сентябре 1966-го, Хайдеггер дает единственное интервью о своем политическом прошлом журналу Der Spiegel (если еще точнее, то бывшему гауптштурмфюреру СС в Норвегии Георгу Вольфу, который 25 лет после войны спокойно работал ведущим редактором крупного СМИ, и никого это не смущало), оно по условию философа публикуется только после его смерти в 1976-м. Несмотря на максимально лояльного интервьюера, заметно, что Хайдеггер вертится как уж на сковороде, когда ему зачитывают его же цитаты из 1933 года, и сводит все к тому, что «время было такое, приходилось идти на компромиссы».
К Морису Бланшо, кстати, — который вплоть до 1937 года писал сразу для как минимум пяти правых изданий (Le Journal des Débats, Aux Ècoutes, Le Rempart, Combat и L’Insurgé, биограф Кристоф Бидон указывает, что в двух первых Бланшо был еще и редактором), а окончательно сменил политическую ориентацию на левую только в 1940-м, когда немецкие танки вошли в Париж и стало очевидно, что активно играющий мускулами консерватизм в реальности не очень приятен, — у современников и потомков никаких вопросов не оказалось, «время было такое», все списали на ошибки молодости (44-летний на момент прихода Гитлера к власти Хайдеггер, увы, такой «картой выхода из тюрьмы» не располагал).
В принципе правильно сделали, потому что всей своей последующей деятельностью (см., например, опубликованный тридцать лет спустя автобиографический очерк «За дружбу», 1971, на русском напечатан в составе сборника «Голос, пришедший извне») Бланшо доказал свою абсолютную благонадежность и гуманизм, дружил со всеми, с кем надо, в первую очередь, конечно, с Эммануэлем Левинасом, и в целом полностью переписал свою биографию, вычеркнув из нее все, что было до войны (кроме гениальной новеллы «Темный Фома», из которой Бланшо в итоге выкинул три четверти текста и которая, опять же, несет на себе отчетливую печать Хайдеггера).
Вторая и гораздо более тяжелая волна радикальной критики Хайдеггера, продолжающаяся до сих пор, идет с 2014 года, после публикации его «дневников размышлений», известных как «Черные тетради» (на редкость удачное вышло маркетинговое название), где философ — уже после войны, в 1947–1949 годах, что лишает его оправдания «время было такое», — делает ряд весьма неприглядных замечаний по поводу евреев, в частности связывая якобы присущую им «расчетливость» и «лишенность корней» с негативными тенденциями «отехничивания» мира (при этом Хайдеггер в других местах текста критикует «биологический расизм» гитлеровского режима, хотя по сути, получается, он просто переводит этот расизм на уровень противоборства воображаемых метафизических принципов).
Каким образом все это связано с «Бытием и временем», написанным еще в 1920-е, до прихода Гитлера к власти? Да никак не связано, хотя некоторые очень увлеченные исследователи и считают, что после обнародования содержания «Черных тетрадей» от Хайдеггера надо отказаться целиком, мол, фашизм содержится в самом ядре его философии (в дазайне, видимо, или в лихтунге?).
Им можно было бы возразить, что в «Бытии и времени» ни разу не упоминаются ни немцы, ни евреи (а человек вообще превращается в аполитичное феноменологическое «присутствие») и далее — что нет никаких свидетельств, что философия Хайдеггера вообще оказала какое-либо влияние на режим Третьего рейха (или что любой из его лидеров был вообще интеллектуально способен прочесть хоть страницу философа). Более того, после стоившей ему в конечном итоге пожизненной репутации «ректорской речи» во Фрайбурге Хайдеггер занимал эту должность всего 11 месяцев (с 27 мая 1933 по 27 апреля 1934 года), подвергаясь насмешкам со стороны тех же самых нацистов, считавших его лекции «тарабарщиной», после чего ушел в отставку.
В дальнейшем в период гитлеровского правления Хайдеггер занимал какие-то формальные должности и пытался балансировать в публичных речах на все более экзотические темы, время от времени прославляя партию, правда в довольно туманных выражениях (если это был tongue-in-cheek, то его не понял никто). В 1944-м, по словам Хайдеггера, его прямо с лекции «Поэзия и мышление» демонстративно, как простого гражданина, мобилизовали рыть окопы без скидок на возраст и былые заслуги.
Весь этот экскурс к тому, что если Хайдеггер был фашистом и расистом «в самой своей философии», то настоящие фашисты так решительно не считали, а считали его каким-то полоумным приспособленцем (Mitläufer, статус, который Хайдеггеру присвоила комиссия по денацификации, собственно, означал «человек, не разделявший нацистскую идеологию полностью, но следовавший ей из оппортунизма, страха или из-за нежелания выступать против») — и неужели нам из XXI века эта проблема видней и ясней?
На этом месте мы засомневались, не слишком ли too much все эти прояснения по поводу «хайдеггеровского вопроса» (которые при некотором усилии можно счесть за попытку оправдания безусловно этически сильно проштрафившегося философа), но, перечитав огромный материал про «Черные тетради» на «Горьком» девятилетней давности, обнаружили, что практически все вышеизложенное уже было там детально разобрано.
Перейдем, стало быть, к самой книге.
Бланшо
За занятнейшей для буквоедов проблемой двойного языкового отражения текста (перевод с французского на русский заметок к переводу с немецкого на французский, подробнее см. в послесловии Виктора Лапицкого) легко упустить его, собственно, проблематику — и то, в чем именно Бланшо уловил мысль Хайдеггера, возможно, даже точнее самого немца.
Практически во всех своих основных текстах Хайдеггер проговаривает в качестве рамки и исходной точки рассуждений тезис о том, что вместе с Фридрихом Ницше в философии завершился тысячелетний период метафизики (и теперь наконец-то можно начать впервые и одновременно заново думать по-настоящему, то есть о бытии).
Однако самого Хайдеггера (и уж точно большинство его читателей) именно в эту метафизику постоянно и сносит неукротимым потоком метафор, в которых можно легко и почти неизбежно заплутать, потому что нигде не поясняется, что именно они должны означать, так как Хайдеггер выводит их друг через друга, подобно неизвестным X и Y, а их значение предполагается, видимо, как-то прямо ложноножкой дазайна самому прочувствовать (ну а чувствуется для человека христианской культуры, естественно, ближе всего как раз метафизическое).
Комментируемое в этом томе Бланшо «Бытие и время» в данном отношении еще более или менее держит себя в рамках (хотя и его вполне можно прочесть на манер загадочного алхимического трактата), а вот в текстах периода «другого начала» и «поворота» типа любимого Бибихиным Beiträge местами начинается чистый Dark Souls: «Время от времени основатели бездны должны жертвовать собой на огне хранимого, чтобы человеку стало возможным вот-бытие и таким образом было сохранено постоянство в средоточии сущего, чтобы само сущее в открытости спора между землей и миром было восстановлено», и тому подобное (еще какие-то «боги» внезапно появляются, онтологический статус которых нигде внятно не прояснен, а если это такая структурная метафора, чтобы избежать тенет наукообразия, то понимание она тоже не облегчает; словом, сформулированную им же задачу «преодоления метафизики» товарищ Хайдеггер блистательно провалил).
А вот Бланшо как раз в своих комментариях демонстрирует кристально ясное понимание, как именно это преодоление должно быть совершено. Так, он отмечает, что Хайдеггер прежде всего писатель, не в том, конечно, смысле, как Агата Кристи или Томас Пинчон, а в том, что язык у Хайдеггера не служит «передаче» философских истин, а сам является пространством, где происходит мысль, лабораторией новых возможностей говорить, что, несомненно, роднит его с поэтами: Гёльдерлином, Рембо, Малларме.
Чтобы понять этот язык, надо проговорить его собой, войти в со-бытие с ним (на русский перевод Vom Ereignis как «о событии» легло вообще на редкость удачно, в отличие от английского «event», «событие» уже сразу содержит тот смысл «со-бытия», до которого Хайдеггеру еще приходится проговаривать немалый отрезок пути) и позволить его подводному течению унести именно тебя, говорящего, к правильному пониманию. Есть ли оно вообще, это правильное понимание, обладает ли им сознательно сам говорящий? И самое интересное, как это понимание может читаться по-разному в разные исторические эпохи (а 1950-е, несомненно, онтологически отличались от 1930-х гораздо больше, чем 2020-е от 2000-х).
В этом ключе обращает на себя внимание, что если основное движение «Бытия и времени» можно описать как центростремительное, попытку сознания-речи провалиться как можно глубже в само себя и найти свой подлежащий исток, то комментарии Бланшо скорее центробежные. Про само Dasein как таковое ему как будто уже все понятно (позже станет ясно почему), и француза интересует в первую очередь то, что в последующие десятилетия станет темой множества гуманитарных исследований: Mitdasein, Mitsein и Mitwelt, то есть вот-бытие-с [другими], бытие сообща и общий-[с-другими]-мир.
Бланшо как будто (а впрочем, почему как будто?) нащупывает возможности для сосуществования с другими людьми после катастрофы, оставившей нескончаемый горизонт руин от центрированного на себе Dasein, неизбежно впадающего для нетренированного ума в раздувшееся индивидуальное эго (парадоксальный урок истории показал, что как раз из таких эго получаются на редкость разрушительные толпы).
Он делает ряд удивительно проницательных комментариев по поводу не слишком разработанного у самого Хайдеггера Mitsein (кажется, это вообще самое откомментированное французом место в книге), которое в интерпретации Бланшо окончательно становится краеугольным камнем для структуры самого Dasein. То есть если совсем просто: чтобы быть человеком, нужно заботиться о других людях, потому что они точно такая же часть тебя, как ты сам:
Mit означает, что другие — того же рода, что и Dasein... другие встречаются не через знание, которое заранее выделяло бы нужный «субъект» из других «субъектов», а через мир, в котором по сути пребывает привязанное к своим заботам Dasein (с. 55).
Предложение «Dasein по существу есть Mitsein» имеет онтологический, а не только онтический экзистенциальный смысл; Mitsein определяет Dasein, даже если другой фактически не наличествует и не воспринимается (с. 56).
Как бытие сообща Dasein по сути своей оказывается «ради других», um willen. Это означает, что в Mitsein, понимаемом как экзистенциальное «ради других», другие раскрываются в своем Dasein... Это означает, наконец, что, поскольку бытие Dasein — это бытие сообща, в понимании его бытия имеется понимание других (с. 59).
Не все, конечно, так просто, потому что вместо взаимной открытости Dasein разных людей друг другу, как мы все знаем по собственному опыту, в обществе всегда наличествуют взаимная закрытость и отчужденность, «каждый есть другой и не есть никто» (с. 62). Здесь на арену выходят загадочные Все (Das Man в оригинале, в переводе Бибихина был выбран не слишком удачный вариант «люди», а впрочем: «что люди подумают?»), которые присутствуют всегда с каждым:
Среднее значение является экзистенциальной чертой Всех. Для Всех речь по существу идет о их бытии в среднем. Вот почему они фактически придерживаются среднего — приличий, ценностей... Все таковы, что их всегда уже след простыл там, где от Dasein как раз таки требуется решение. Поскольку же Все забирают себе власть судить и решать, они снимают с Dasein ответственность... Они могут отвечать за все, ибо нет никого, кто мог бы поручиться за что бы то ни было. Речь всякий раз о Всех, а можно сказать, что и ни о ком. В повседневной жизни все по большей части происходит ни из-за кого (с. 61-62).
И вместе с тем:
Все — это экзистенциал и, будучи изначальным феноменом, принадлежит [sic] к позитивному устроению Dasein (с. 63).
Как фактическая реальность, Dasein прежде всего пребывает в Mitwelt, каким тот открывается в своей усредненности... именно через Всех и как Все я прежде всего дан самому себе. Dasein — это прежде всего Все, и чаще всего Всеми оно и остается (с. 63)
Бережно распутывая мистический клубок хайдеггеровских прозрений, Бланшо прежде всего направляет свой взгляд вовне — да, конечно, в первую очередь причиной тому личный опыт мировой войны. И из этого же опыта, опыта того, кто выстоял, — и того, кто в 1960-м станет автором легендарного антивоенного «Манифеста 121», — исходит и другая область интересов Бланшо в «Бытии и времени»: многократно им здесь откомментированная тема совести, поколения и ответственности.
Как уже было сказано ранее, Все снимают с Dasein его ответственность за свое бытие. Ведь что такое Все? Все — это когда ты выглядываешь в окно посмотреть, в чем все люди ходят, и одеваешься «по погоде» в соответствии с этими всеми (в первую очередь в рассудочных, политических и эстетических категориях).
И здесь получается интересный узел: «участь, которую в своем „поколении“ и вместе с ним Dasein несет как судьбу, составляет полное и подлинное событие Dasein», и вместе с тем Mitsein, бытие сообща, составляет ключевой элемент структуры Dasein, и вместе с тем совесть, максимальная честность перед собой / перед лицом смерти («„Подлинная мысль о смерти“ есть ставшая для себя экзистенционно прозрачной воля иметь совесть», с. 119), это самое индивидуальное, что в такой ситуации может быть, даже если человек сам и не понимает, почему именно он чувствует что вот так будет по совести, а так — нет («Из того, что те, кто живет повседневным опытом совести, не обладают ее верным и изначальным экзистенциальным видением, отнюдь не следует, что они уступают по «экзистенционным моральным качествам», с. 114).
Совесть, выходит, — это не какой-то интеллигентский фантом или религиозный рудимент, а буквально рычаг пробуждения Dasein, связанный через Mitsein и со всеми Другими. Усовестись сам, и с тобой усовестятся тысячи. Пожалуй, сегодня это гораздо важнее, чем что бы то ни было.
Мгновение полночи
Чрезвычайно занимательной, с нашей точки зрения, выглядит странная ремарка Бланшо в скобках на странице 51 (подчеркивание наше): «„Там“, где о себе заявляет подручный объект, — не точка пространства, оно занимает всю область озабоченности и ориентируется на все остальные подручные объекты: так солнце определяет восток, запад, полдень (я житель полночи); эти небесные области не имеют какого-то географического значения, они определяются всей целокупностью пользований».
Что Бланшо имеет в виду, к чему он здесь отсылает для самого себя? Напомним, что эти заметки не предназначались для публикации и чтения посторонними, то есть речь идет о чем-то личном и приватном, — практически единственный раз за все комментарии на «Бытие и время» Бланшо, обычно целиком сливающийся с читаемым текстом, мельком, в рапиде, показывает свое лицо.
Предложенная г-ном Пина в предисловии трактовка, что речь идет о «пародийном намеке» на прозаический фрагмент «Игитур» Стефана Малларме, на наш взгляд, неверна — не в том плане, что отсылка определена некорректно, а в том, что речь идет не про шутку, а про нечто очень серьезное — более того, находящееся в самом нервном центре внутреннего мира Бланшо.
Действительно, Бланшо много писал о Малларме (большинство этих текстов, кажется, не переведены на русский), в том числе конкретно про «Игитур» в сборнике «Пространство литературы»:
Повествование начинается с эпизода «Полночь», что заставляет вспомнить о чистом присутствии, где существует только существование ничто, но делается это не для того, чтобы создать прекрасное художественное творение, а также не для того, чтобы декорировать действие — пустую комнату, перегруженную мебелью, но захваченную тенью. Образ этой комнаты как бы первоначальная среда поэмы. Подобная «декорация» есть в действительности центр рассказа, истинным героем которого является Полночь, а действием — прилив и отлив Полдня. Повествование начинается с конца, это придает ему волнующую истину: с самых первых слов комната пустеет, как если бы все уже свершилось, капля была выпита, склянка опустошена, а «несчастный герой» повержен, став прахом. Вот полночь, час, когда брошенные кости оправдывают всякое движение. Ночь возвращается к себе самой, отсутствие приобретает завершенные формы, молчание очищается.
Внимательно читая это эссе дальше, мы находим наконец долгожданный ключ (подчеркивание наше):
«Никто не станет отрицать присутствие Полуночи». Но это существующее присутствие не является таковым, оно есть отрицание настоящего. Это исчезнувшее настоящее и Полночь, где сосредоточивалось вначале «абсолютное настоящее вещей» (их ирреальная сущность), становится «чистой мечтой исчезнувшей в себе Полуночи; это больше не настоящее, а прошедшее, символизированное, как завершение истории у Гегеля, книгой, открытой на столе, книгой — декорацией Ночи». Ночь есть книга, молчание и недвижимость книги, когда, после того как все уже высказано, все возвращается в тишину, и только одна эта тишина говорит из глубины прошлого и одновременно оказывается будущим слова, так как присутствующая Полночь, час, которому не хватает настоящего, есть также час, когда прошедшее касается будущего непосредственно, без всякого опосредования современностью; и таково есть, как мы видели, само мгновение смерти, которое никогда не есть настоящее, есть победа абсолютного будущего, когда во времени без настоящего будет то, что было.
Именно так, с добавлением признательно-притяжательного местоимения, «Мгновение моей смерти», называется короткий текст, который Морис Бланшо опубликовал в 1990-х, кажется, вообще последний его текст (Бланшо, впрочем, дожил почти до ста лет и умер только в 2003-м), в котором можно, как нам представляется, отыскать ключ-признание старого автора об истоках его творческого метода и мыслительной траектории. Осмелимся немного развить эту гипотезу и предположить, что через такую оптику становится куда ясней и понятней интерес Бланшо к философии Мартина Хайдеггера.
В августе 1944 года, во время освобождения Парижа, когда «уже побежденные, немцы с бессмысленной жестокостью продолжали тщетную борьбу», 36-летнего Бланшо вместе с несколькими другими гражданскими поставили к стенке перед расстрельной командой. Лейтенант не успел отдать приказ о казни, отвлекшись на завязавшуюся неподалеку перестрелку, и между оставшимися наедине палачами и жертвами повисла пауза. Наконец один участник расстрельной команды опустил оружие, «подошел, решительно произнес: „Мы не немцы, мы русские“ и, с чем-то вроде усмешки добавив: „Армия Власова“, сделал ему [Бланшо] знак скрыться». Об этом инциденте известно только с написанных пятьдесят лет спустя слов самого Бланшо (впрочем, логично: кто может еще засвидетельствовать подлинность эпизода, власовцы, что ли?), и, несмотря на поразительное сходство с опытом почти-казни Достоевского, биографы писателя сходятся на том, что данная сцена действительно имела место в реальности.
Именно в это «мгновение смерти», вспоминает Бланшо, он и пережил то непередаваемое, удивительное, загадочное состояние абсолютной свободы, теоретические обоснования которого через несколько лет он начнет искать в работах Хайдеггера:
Знаю — это я знаю, — что тот, в кого уже прицелились, ожидая последнего приказа, немцы, испытал тогда ощущение необыкновенной легкости, своего рода блаженство (в котором, впрочем, не было ничего от счастья) — полнейшее ликование? Встреча смерти со смертью? На его месте я бы не пытался анализировать это ощущение легкости. Оно, быть может, вдруг стало непреодолимым. Смертное — бессмертным. Возможно, экстаз. Скорее же — ощущение сочувствия к страдающему человечеству, счастье не быть ни бессмертным, ни вечным. Отныне он был связан со смертью сокровенной дружбой... то ощущение легкости, которое я не сумел бы передать: освобожденность от жизни? раскрывающаяся бесконечность? Ни счастье, ни несчастье. Ни отсутствие опасений и, быть может, уже шаг по ту сторону. Я знаю, я представляю, что это непостижимое ощущение изменило остаток его существования. Словно смерть вне его могла отныне только натыкаться на смерть в нем. «Я живой. Нет, ты мертв».
По-видимому, сходный опыт «мгновения полночи» во время войны имел работавший в подполье на французское Сопротивление Сэмюэл Беккет (он вообще практически всегда возникает как некий third mind в разговорах о Бланшо и Хайдеггере, хотя никогда не встречался ни с тем, ни с другим).
При всем внешнем и «атмосферном» сходстве поздних текстов Беккета с работами Бланшо (мы бы даже сказали, что это сравнение уже несколько поистрепалось), писательские стратегии «письма, что уничтожает само себя» у них были радикально разные.
Беккет — на момент штудирования французом Хайдеггера он дописывает «Безымянного», последнюю часть «Трилогии», которая через 18 лет принесет ему Нобелевскую премию по литературе, — скорее душил сам язык, саму букву, погружаясь в непрестанные бессмысленные описания и перечисления, умирающие еще до завершения скольжения взгляда по строчке.
Бланшо же как будто делал по сути что-то совсем другое, и пусть невыносимая детальность полуинтонаций в «Ожидание, забвение» так похожа на Беккета, интенция, вокруг которой вся эта структура обернута, направлена хоть и на то, чтобы погасить речь, остановить язык и мир вместе с ним («Но где же мир?» — еще одно интересное восклицание-пометка Бланшо на странице 46 комментария к «БиВ»), но не через отмирание, а через исчерпание, через предельную нюансированность и проговаривание словом самого себя, что должно привести к его коллапсу наподобие сверхновой.
Вероятно, это в итоге и произошло — дочитав за десять лет хайдеггеровский корпус, Бланшо перестает писать. На этот момент ему без малого 55 лет — по забавному совпадению ровно столько же, сколько было Хайдеггеру в том августе 44-го, когда француза выводили на расстрел, что привел к просветлению.
Уже неоднократно упоминавшийся ранее «Ожидание, забвение» (1962), написанный по итогам «феноменологической декады» и самый хайдеггерианский его текст, стал последней работой Бланшо в прозе (La Folie du jour, вышедший в 1973-м, был написан еще в 1949-м, Après Coup / Le Ressassement éternel, вышедшая в 1983-м, также является переизданием двух старых текстов) — собственно, до поясняющего и закругляющего биографию Бланшо «Мгновения моей смерти» (1994).
Беккет, по словам Бланшо («Ох все окончить»), «узнавал себя» в этом отрывке из «Ожидание, забвение»: «эта равномерная речь, пространная без пространства, утверждающая, не дотягивая ни до какого утверждения, которую невозможно отрицать, слишком слабая, чтобы смолкнуть, слишком покорная, чтобы ее сдержать, ничего особого не говорящая, всего-навсего говорящая, говорящая без жизни, без голоса, голосом тише любого голоса: живущая среди мертвых, мертвая среди живых, призывающая умереть, воскреснуть, чтобы умереть, призывающая без зова».
Речь, призывающая без зова, она же зов, который не слышен, — именно так в шестидесятом параграфе «Бытия и времени» Хайдеггер описывает размыкающую Dasein совесть (напоминаем, что бибихинские «люди» = Все):
...этот зов есть молчание. Речь совести никогда не приходит к озвучанию. Совесть зовет только молча, т. е. зов идет из беззвучия одинокого не-по-себе и зовет вызванное присутствие как имеющее стать тихим назад в тишину самого себя. Воля-иметь-совесть таким образом адекватно понимает эту молчащую речь единственно в умолчании. Оно лишает слова понятливые толки людей.
Молчащую речь совести, понятливое толкование совести, «строго держащееся эмпирии», берет поводом для того, чтобы выдать совесть за вообще неустановимую и неналичную. Что люди, слыша и понимая лишь голые толки, не могут «констатировать» никакого зова, взваливается на совесть с той отговоркой, что она «нема» и явно неналична. Этим толкованием, люди лишь прикрывают свойственное им прослышание зова и укороченный диапазон своего «слуха».