«Я женщина — твердый воин…»
О книге Вероники Зусевой-Озкан «Дева-воительница в литературе русского модернизма»
Вероника Зусева-Озкан. Дева-воительница в литературе русского модернизма: образ, мотивы, сюжеты. М.: Индрик, 2021. Содержание. Фрагмент
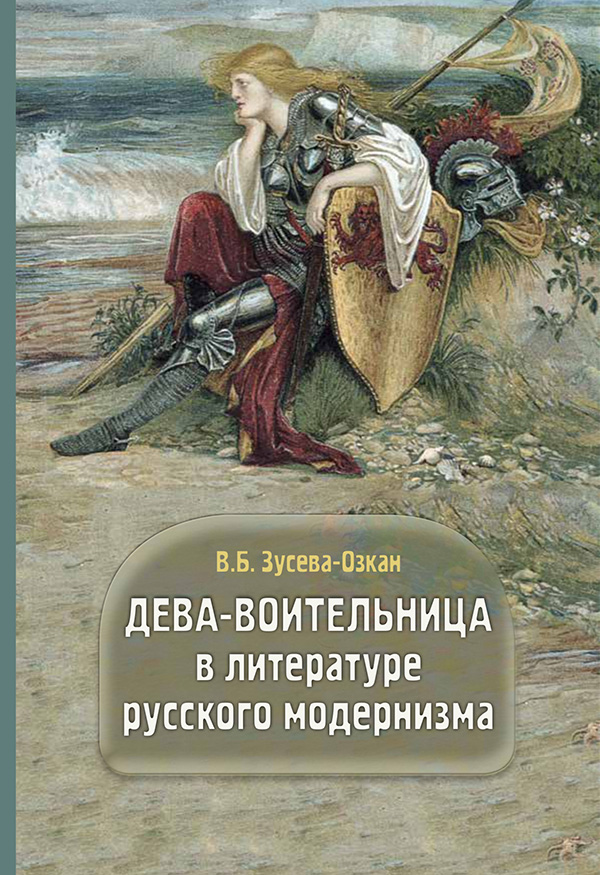 Кто такие девы-воительницы?
Кто такие девы-воительницы?
Стоит ли говорить, что девы-воины — не открытие нашего времени, продвинутого в вопросах гендерного самоопределения, и даже — не эпохи модернизма с ее идеями женской эмансипации. Персонажи многочисленных мифов и легенд, воительницы так или иначе фигурируют в разных культурах: в Древнем Египте, Месопотамии, Индии, Древней Греции, средневековой Европе.
Часто дева-воин представала как «идеальное существо, соединяющее в себе противоположности: красоту и привлекательность, внешнюю женственность — и огромную физическую силу, сравнимую с мужской и даже ее превосходящую; сердечную чувствительность — и самостоятельность, независимость, гордость; божественное начало — и звериную витальность; храбрость, стремление побеждать — и фактическую неуязвимость». Но были и отличия, и противоречия. Богиня Кали уничтожала демонов и освобождала богов, но неизменно внушала ужас своей волей к разрушению и убийствам. Амазонки то выступали как идеальные воины, не знающие страха и боли, то неистово падали к ногам своих возлюбленных и расставались с жизнью. Валькирии, вестницы смерти, подчас были настолько прекрасны, насколько яростны и безжалостны. Восприятие образов воительниц, как убедительно показывает Вероника Зусева-Озкан, оказывалось в зависимости от оптики тех, кто выстраивал нарративы о них, а сама эта оптика формировалась в том числе в связи гендерной нормативностью, присущей той или иной эпохе.
Воительницы, как бы они ни были архетипичны, традиционно определялись в первую очередь как девы и несли на себе следы феминности, что выражалось если не в их иконическом облике (те же длинные волосы, нередко стройные фигуры и проч.), то в отношении к ним авторов нарративов, довольно сексуализированном, ибо даже род занятий воительниц не отменял объективирующего мужского взгляда и работы эроса. Даже наделенные маскулинными чертами — что кажется неизбежным, учитывая особенности ремесла, требующего свирепости и силы, — девы-воины не становились вызовом для патриархальности и биополитических матриц традиционных культур. «Воительницы — существа, исключившие себя из патриархатных отношений (как некое особое сообщество — например, амазонки, или в результате личной исключительности, или в силу принадлежности к сонму полубожеств, возвышающемуся над человеческим сообществом)». В своем роде и даже множестве они были единственными, невозможными для подражания, тем исключением, которое только подтверждает существование правил.
Краеугольным камнем в историях воительниц становились их отношения с возлюбленными, которые — нужно ли акцентировать? — были мужчинами. А развитие любовной линии подразумевало неизбежность поединка между любящими. В монографии говорится о трех возможных вариантах поворота сюжета. Героиня могла быть равной по силе мужскому персонажу, что программировало любовь-ненависть и трагическую развязку, кто бы из влюбленных ни победил или ни погиб в поединке. (Зигфрид и Брунгильда рано или поздно погибнут оба). Второй вариант: героиня или герой могут отказаться от испытания силы, тогда поединок замещается преследованием, эротическим поиском. Наконец, героиня может оказаться изначально сильнее героя и решить все за него, женить на себе. В таком случае любовь редуцируется до воли одного персонажа. Например, Царь-девицы из русских сказок.
Воительницы в литературе модернизма
Модернизм, без сомнения, оперировал теми же образами и ситуациями, что и предшествующие эпохи, но вносил коррективы в их трактовки. С одной стороны, гендерный порядок модернизма был по-прежнему маскулинным, подразумевающим противопоставление полов и маркированность фемининного как вторичного в пространстве культуры. Вслед за Кирсти Эконен Вероника Зусева-Озкан замечает, что категория фемининного в это время оказывается внутренне полярна: женщина в культурных репрезентациях конца ХIХ — начала ХХ веков предстает «либо прекрасной (бестелесной, пустой, формируемой...), либо падшей (телесной, активной, сексуальной, угрожающей)». С другой стороны, именно в эпоху модернизма появляется большое количество женщин-авторов и стратегий репрезентации их литературного творчества, в том числе за счет создания мужских речевых масок и моделирования андрогинного образа, как это было в случае Зинаиды Гиппиус, известной в том числе как критик Антон Крайний. Впрочем, в эпоху Серебряного века не только женщины прибегали к мужским речевым маскам, но и мужчины — к женским, что расширяло представление о возможном в искусстве и в конечном счете в жизни. Эти эксперименты модернизма так или иначе вели к деконструкции соотношения маскулинности и фемининности в культуре.
Довольно частое в искусстве модернизма обращение к образу девы-воительницы являло случаи «гендерного беспокойства» на фоне «нормы гендерного дисплея». Вероника Зусева-Озкан подробно исследует литературные контексты 1900‒1920-х годов, от Мережковского до Анны Барковой, замечая, что «вечные» образы, помещенные в конкретно-исторические декорации, продолжают сохранять свои сущностные черты, но обновляются за счет интерпретаций в творчестве многих авторов.
Например, Клоринда и Жанна д'Арк у Мережковского в разное время оказывались провозвестницами чаемого им Третьего Завета. Особенно Жанна, непорочная дева-воин, расположившаяся как бы между Марией и Иисусом и несущая представление об андрогинности, которая, в свою очередь, манифестировала одухотворение и преображение телесного (важная часть концепции Третьего Завета).
Или Брунгильда у Блока и Белого, прочно связанная в системе образов с Любовью Менделеевой, а фактически с Мировой Душой, Софией. Внеженственность Софии отмечали многие последователи философии Владимира Соловьева. Философ-богослов Павел Флоренский писал, что «строением своего духа София значительно отклоняется от женственности; но это не значит, что она имеет черты мужские: ее организация сближается с мужской, поскольку и эта последняя сама может, удаляясь от полярного раздвоения человеческой природы, подходить к ангельскому, общему обоим полам коренному типу человечности». В художественных практиках младосимволистов воительницы лишались маскулинных черт, зато включали в себя черты Богоматери, ангела, родины и нередко наделялись функциями спасительниц героев. И какое здесь разительное отличие, скажем, от воительниц у Гумилева, выступающих в роли вестниц Судьбы и несущих смерть герою.
Не менее значимы репрезентации воительниц в творчестве поэтесс Серебряного века. От маскулинных амазонок и женственных юношей в поэзии Любови Столицы, инверсирующей концепт Вечной женственности до Вечной юношественности, но все равно наделяющей своих героинь довольно безысходной судьбой, до «красноармейки» и «атаманши» у неистовой Анны Барковой, неожиданно также связанных с «эсхатологически-утопической проблематикой символизма и софийным мифом».
Для любителей поверять отечественную поэзию Цветаевой и Ахматовой в книге Вероники Зусевой-Озкан найдется немало фактов, свидетельствующих о востребованности образа девы-воина у первой. Как известно, «образ воительницы был дорог Цветаевой в первую очередь его гендерной неконформностью: на протяжении всей своей жизни Цветаева говорила, с одной стороны, о преодолении границ пола, а с другой стороны, о собственной мужественности — и души, и тела, и текстов, — причем черты, традиционно считающиеся мужскими, отмечали в ней и окружающие». Например, Софья Парнок, в чьих стихотворениях 1914‒1916 годов, т. е. в период любовных отношений с Цветаевой, образ девы-воина оказывается прямо спроецирован на младшую подругу: «Следила ты за играми мальчишек, / Улыбчивую куклу отклоня. / Из колыбели прямо на коня / Неистовства тебя стремил излишек». Дева-воин (та же Царь-девица) или мужчина-воин (знаменитый пражский рыцарь) в качестве цветаевского альтер эго проходят через все ее творчество. Ну и как итог: к 1927 г. «воительница принимает образ мужененавистницы-амазонки, презрительной к жизни плоти, но при этом героической матери, жертвующей собой ради сына».
Что принципиально нового в книге?
Во-первых, монография объединила и проанализировала репрезентации дев-воительниц в литературе 1900‒1920-х годов (с заходом в советскую литературу, не обойдя пусть эпизодическим, но вниманием ни «Сорок первый» Бориса Лавренева, ни «Гадюку» Алексея Толстого). Во-вторых, в ней продуманно актуализированы контексты, которые в разговоре о модернизме не всегда очевидны. Стоит особенно тщательно прочитать очерки о поэзии Любови Столицы, «чье творчество вообще остается малоисследованным, наследие — не вполне собранным, а канва жизненного пути сохраняет ряд лакун»; о «малоизученном» поэтическом наследии Анны Барковой; наконец, о том, что писала Мария Лёвберг, кажется, и вовсе не известная современному читателю. Между тем Лёвберг создала большое количество поэтических, прозаических и драматургических произведений, которые ценили Блок, Горький, Гумилев, Замятин и др. Важный факт: свою лирику Лёвберг писала от мужского лица, пытаясь «обрести творческую субъектность в рамках маскулинного гендерного порядка модернизма».
В-третьих, и главных, поскольку исследования Вероники Зусевой-Озкан — мощнейшая заявка на реактуализацию целого ряда женских имен в литературе, то, стало быть, перед нами в некотором роде новый и давно ожидаемый пересмотр литературного канона с феминистских позиций. А обращение к образу девы-воительницы выглядит в контекстах отечественного литературоведения 2010-х годов и вовсе как апофеоз феминизма в академическом формате.