Я умею плеваться кровью на песок!
О книге Ульрике Мозер «Чахотка: другая история немецкого общества»
Отношение к болезням может многое рассказать об устройстве общества, ценностях и ориентирах его членов. В начале 2021 года эта мысль кажется банальной, но для исторического исследования она может быть очень плодотворной. За внешней универсальностью болезней скрывается изменчивость, связанная прежде всего с тем, как в разные времена воспринимались одни и те же заболевания, какие практики и отношения они порождали. Именно это интересует Ульрике Мозер: она изучает, как менялось отношение к чахотке в Германии в XIX и первой половине XX века. О ее книге «Чахотка: другая история немецкого общества» — в рецензии Константина Митрошенкова.
Ульрике Мозер. Чахотка: другая история немецкого общества. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Перевод с немецкого Анны Кукес. Содержание
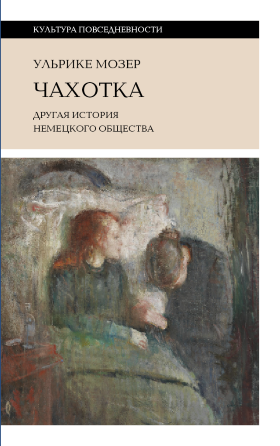 С древнейших времен люди болели чахоткой (или туберкулезом, если использовать современное название). Исследования показывают, что бактерия туберкулеза впервые инфицировала человека около 15–20 тысяч лет назад. Чахотка, как известно, передается воздушно-капельным путем, и потому серьезной проблемой для жителей Европы она стала только в XVII веке, когда начался рост городов. Мозер очень кратко освещает этот период, объясняя свое решение тем, что только в XIX веке чахотка стала болезнью номер один, перехватив это звание у сифилиса.
С древнейших времен люди болели чахоткой (или туберкулезом, если использовать современное название). Исследования показывают, что бактерия туберкулеза впервые инфицировала человека около 15–20 тысяч лет назад. Чахотка, как известно, передается воздушно-капельным путем, и потому серьезной проблемой для жителей Европы она стала только в XVII веке, когда начался рост городов. Мозер очень кратко освещает этот период, объясняя свое решение тем, что только в XIX веке чахотка стала болезнью номер один, перехватив это звание у сифилиса.
Чахотка выгодно отличается от сифилиса почти полным отсутствием внешних проявлений. Конечно, есть кашель с кровью, зато никаких гниющих тканей и отваливающихся носов. Чахотка не вызывала отвращения, более того, многие деятели искусства эпохи романтизма идеализировали ее. Поводов было несколько. Во-первых, неясны были причины болезни (Роберт Кох откроет возбудителя туберкулеза только в 1882 году), и во многих странах считалось, что к чахотке склонны сангвиники — переменчивые и легковозбудимые натуры. Во-вторых, от болезни в основном страдали молодые люди, многие из которых умирали в самом расцвете сил. Добавим сюда воздействие чахотки на тело человека — «угасающий... больной все больше приобретал черты бесплотного ангела» — и получим подходящую основу для романтического мифа о болезни, которая поражает людей творческих и возвышенных.
Идиллическая картина часто рушилась при столкновении с реальностью. Это произошло с Марией Башкирцевой, русской художницей-аристократкой, жившей в Париже в 1870–1880-е годы. Она оставила подробный дневник, который Мозер называет «образ[цом] мифа о романтической чахотке, истори[ей] возвышения и украшения неизлечимой болезни». Первые признаки болезни вызвали у Башкирцевой восторг («Тетя в ужасе, я торжествую. Смерть меня не страшит... Я не стремлюсь выздороветь»), который вскоре сменился ужасом. Художница уже не считала, что болезнь делает ее «особенной», а мучительно наблюдала, как жизнь проходит мимо, пока она лежит в постели без сил. Башкирцева скончалась в октябре 1884 года, «совершенно измученная горловым кровотечением и равнодушная ко всему происходящему вокруг».
После открытия Коха отношение к чахотке постепенно начало меняться, хотя Мозер и обнаруживает отголоски романтического мифа в записях Кафки, которому диагностировали туберкулез в сентябре 1917 года. Потеряв свою загадочность, болезнь все больше обнажала ужасное содержание. Способствовали этому и социально-экономические процессы. В 1870-е годы в Германии началась индустриализация, стремительно увеличивалось население городов, прежде всего Берлина. Из-за нехватки жилья промышленные рабочие и представители низших слоев общества жили очень скученно. Доходило до того, что многие снимали места на кровати в общей комнате. Идеальные условия для распространения туберкулеза, который все больше ассоциировался с нищетой, а не утонченностью.
«Крестьяне или берлинские рабочие умирали в своих лачугах или на городских задворках без того, чтобы зафиксировать свой опыт болезни и оставить о нем свидетельство». Одним из тех, кому удалось запечатлеть чахотку в ее «пролетарском» варианте, стал художник Генрих Цилле. Он был выходцем из бедной семьи, перебравшейся в Берлин в 1860-е годы. Благодаря упорному труду Цилле удалось разорвать замкнутый круг нищеты и добиться успеха. «Цилле рисовал болезнь пролетариата — чахотку: маленькая девочка с изможденным лицом заявляет: „Я умею плеваться кровью на песок!”». Зловещая болезнь обошла стороной Цилле, но не пощадила его семью. От чахотки скончалась Анна, невестка художника, которой не помогло даже пребывание на швейцарском курорте.
Вплоть до середины XX века не существовало лекарства от туберкулеза. Больные обычно отправлялись в санатории в горах — считалось, что разреженный воздух благоприятно воздействует на легкие. Чахотка превратила Швейцарию в европейскую здравницу, куда стекались наиболее привилегированные больные: аристократы, крупные буржуа и представители богемы, имевшие состоятельных покровителей. Пребывание в санатории могло растянуться на долгие годы. Если одни пациенты действительно страдали от тяжелой формы болезни, то другие просто наслаждались уютом курорта и не желали возвращаться к повседневной жизни. Томас Манн иронически изобразил эту публику в романе «Волшебная гора», который писался с 1912-го по 1924 год.
С началом Первой мировой войны буржуазный мир санаториев стал приходить в упадок. Дело было не только в том, что военные действия затруднили доступ на территорию нейтральной Швейцарии, — менялось само общество. «Буржуазии, которая толковала чахотку как знак своей особенности и изысканного образа жизни, больше не существовало». В первой четверти XX века формируется массовое общество (сама Мозер не использует это понятие, хотя и описывает соответствующие процессы), которое уже не могло позволить себе легкомысленное и романтическое отношение к туберкулезу. Но болезни предстояло пережить еще одну метаморфозу.
После прихода к власти нацисты объявили туберкулез одним из тех «нечистых» заболеваний, от которых необходимо было избавить немецкое общество. Метафоры болезни активно использовались лидерами национал-социализма. Так, Гитлер в одной из своих речей говорил о «расовом туберкулезе» евреев. Как демонстрирует Мозер, подобная риторика возникла не на пустом месте, а опиралась на идеи расовой гигиены и евгеники, популярные в годы Веймарской республики. Больные туберкулезом не просто превратились в изгоев — многие из них были умерщвлены или отправлены в клиники, распорядки в которых были далеки от санаторных.
Изменение статуса болезни изменило и положение врачей. При национал-социализме они оказались наделены большой властью и часто использовали ее не во благо пациентов. Курт Хайсмаер был врачом в санатории, где часто отдыхали нацистские лидеры. Он искал лекарство от туберкулеза и для проведения исследований ему требовались подопытные. Заручившись поддержкой Гиммлера, Хайсмаер отправился в концлагерь Нойенгаме, где начал свои эксперименты. Заключенным впрыскивали бактерии туберкулеза в легкие, вводили туберкулезную мокроту под кожу или втирали ее в раны. В апреле 1945 года, ожидая прихода британских войск, врачи и солдаты СС убили оставшихся «пациентов» и сожгли их трупы. По горькой иронии еще в 1943 году двое американских ученых, Зельман Ваксман и Альберт Шац, открыли лекарство, которым можно было лечить даже тяжелые формы туберкулеза.
Книга Мозер замечательна тем, что она демонстрирует, как в течение жизни одного поколения может измениться отношение к болезни — под влиянием не столько медицинских, сколько социальных, экономических и политических факторов. Многие из тех, кто в 1940-е годы делал насильственную эвтаназию туберкулезным больным, хорошо помнили эпоху чахоточных санаториев, закат которой запечатлел Томас Манн. «Это спуск с „волшебной горы”... в концентрационный лагерь. История чахотки — это история обесценивания». Кроме того, Мозер удачно совмещает микро- и макроуровни, чередуя экскурсы в социальную и политическую историю Европы с разбором конкретных кейсов. Она предлагает общую рамку изучения европейских приключений чахотки, избегая при этом схематичности.
Вместе с тем книгу есть за что поругать. Мозер, изучая отношение к болезни, привлекает много литературных произведений, а также личные свидетельства писателей, поэтов и художников. «Ни один другой недуг не изображался в искусстве так широко и разнообразно [как чахотка]». В работе много ярких зарисовок из жизни богемы, но почти ничего о том, как воспринималась болезнь «внизу». Во введении Мозер сожалеет, что крестьяне и рабочие — «субъекты истории, а не ее объекты» — почти не имели возможности рассказать о своем недуге. Но вместо того чтобы попытаться отыскать неизвестные или малоизвестные свидетельства, она концентрируется на хорошо изученных текстах вроде «Волшебной горы» или дневников Башкирцевой.
В результате книга не только оказывается «персоноцентричной», если воспользоваться выражением Марии Пироговской, но и предлагает крайне специфичный взгляд на чахотку. Даже когда Мозер говорит о превращении чахотки в «пролетарскую» болезнь, она уделяет основное внимание тому, как изменилась ее репрезентация в искусстве. Конечно, и такой подход имеет право на существование, но от книги с подзаголовком «другая история немецкого общества» ожидаешь немного другого.