«Я дилетант в художественной литературе»
И другие откровения из сборника статей и интервью Лю Цысиня
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Лю Цысинь. Взгляд со звезд. Статьи, эссе, интервью. М.: Fanzon, 2024. Перевод с английского Михаила Головкина. Содержание
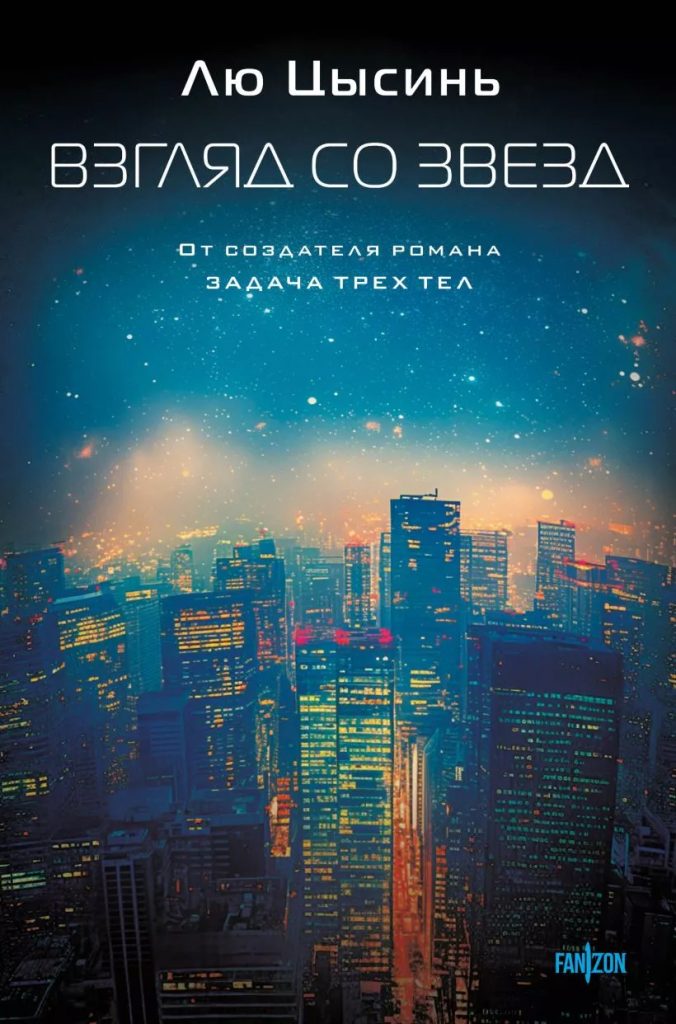 Стоит оговориться сразу: эту книгу написал не Лю Цысинь. Точнее, не один Лю Цысинь. «Взгляд со звезд», сборник статей, эссе и интервью крупнейшего современного (и не только современного) научного фантаста КНР, переведен не с оригинала, а с американского издания — какие фрагменты потерялись, какие мысли оказались искажены, что подверглось цензуре в результате этой увлекательной игры в испорченный телефон, знает только ветер над гаоляном. В идеале здесь стоило бы указать переводчиков на английский в качестве соавторов — по крайней мере, так было бы честнее.
Стоит оговориться сразу: эту книгу написал не Лю Цысинь. Точнее, не один Лю Цысинь. «Взгляд со звезд», сборник статей, эссе и интервью крупнейшего современного (и не только современного) научного фантаста КНР, переведен не с оригинала, а с американского издания — какие фрагменты потерялись, какие мысли оказались искажены, что подверглось цензуре в результате этой увлекательной игры в испорченный телефон, знает только ветер над гаоляном. В идеале здесь стоило бы указать переводчиков на английский в качестве соавторов — по крайней мере, так было бы честнее.
С некоторой долей уверенности можно предположить, что те идеи, которые проговариваются на этих страницах дважды или трижды, разными словами и в разном контексте, действительно принадлежат Лю Цысиню, скорее всего, это не отсебятина переводчика и не случайный артефакт. Но непрерывный поиск таких совпадений превращает чтение книги в разгадывание нудного ребуса — на мой взгляд, не слишком гуманно по отношению к читателям.
Самые поздние статьи в сборнике «Взгляд со звезд» датированы 2015-м: именно в том году к китайскому писателю пришла мировая слава, а его роман «Задача трех тел» получил «Хьюго», старейшую американскую премию в области фантастики. Впервые награды удостоилась переводная книга — за семьдесят лет существования «Хьюго» такого еще не случалось.
Однако жизненный и творческий путь Лю Цысиня, IT-инженера с маленькой электростанции в тысяче километров от Пекина, никогда не был выстлан розами. Его родители пострадали во время «культурной революции», Лю оказался на попечении родственников из нищего полуголодного захолустья: «В то время в моей деревне, как и во всей округе, царила запредельная бедность, и постоянным спутником каждого ребенка был голод. Мне еще относительно повезло, ведь у меня была обувь, а большинство моих друзей были босы, и на нескольких детских ножках все еще виднелись незаживающие следы обморожения» (из предисловия к американскому изданию «Задачи трех тел»). Коротать будни и расцвечивать праздники Лю помогала научная фантастика. Сначала — Жюль Верн, один из немногих переводных писателей, чьи романы можно было найти в КНР эпохи «культурной революции». Позднее, во времена более вегетарианские, — Артур Кларк, Айзек Азимов и другие титаны американского «золотого века», а заодно китайские авторы «научно-просветительской» фантастики 1980-х, нежно любимые Лю Цысинем по сей день.
Вообще, если верить статьям, включенным в этот сборник, до самого последнего времени научная фантастика в Китае чувствовала себя неважно. Внезапный успех своей трилогии «В память о прошлом Земли» (2006–2010) Лю Цысинь оценивает как событие экстраординарное, из ряда вон выходящее — и в целом не слишком ошибается: никому из китайских авторов НФ повторить этот ловкий фокус пока не удалось. Страницы «Взгляда со звезд» чуть менее чем полностью заполнены сетованиями: печататься негде, научно-фантастические романы никому не нужны, критика смотрит на «жанр» с нескрываемым презрением, НФ пользуется популярностью только у фанатов, а широкая публика о такой литературе и слышать не желает. Очень узнаваемая картина. Сравнительно недавно, в 2012 году, в статье «Восстановление доверия к научной фантастике» Лю Цысинь подводил неутешительные итоги: «Китайскую фантастику, опубликованную за эти тридцать лет „штурма и натиска“, в общем можно описать репликой из одного фильма Фэн Сяогана: „она с криком бросилась в бой и яростно сражалась, но конец ее был печален, и сейчас о ней вспоминают только шепотом“».
Очевидно, именно круг детского и юношеского чтения определил приоритеты будущего писателя на всю жизнь. Автор «Задачи трех тел» признается, что не жалует художественную литературу, а предпочитает прозу, как выразился в свое время советский фантаст Александр Казанцев, «зовущую молодежь в технические втузы». «Мне нравится фантастика, в которой меньше литературы и больше науки, — говорит Лю Цысинь в „Речи по случаю вручения премии“ (2001). — Мне всегда казалось, что фантастика — не тот жанр, который должен приподнимать завесу с реальности и препарировать человеческую природу; я считаю, что фантастика проявляет себя не с лучшей стороны, когда занимается этим».
Иными словами, фантастика не литература, и ей не стоит притворяться тем, чем она не является. «Я никогда не был поклонником беллетристики и не думал о том, что однажды мой путь подведет меня так близко к ней, — признается он в статье „По ту сторону нарциссизма“ (2009) с честностью, заслуживающей уважения. — К Площади Фантастики люди идут по разным улицам — кого-то ведет любовь к литературе, других — увлечение наукой. Я принадлежу ко второй группе... Я — любитель фантастики и дилетант в художественной литературе».
При этом для автора строгой научной фантастики Лю Цысинь не слишком аккуратно обращается с цифрами и фактами. «Мы слезли с деревьев лишь чуть более миллиона лет назад», — пишет он в статье «Обратная экспансия цивилизации» (2003). Между тем только Олдувайская культура появилась не менее 2,5 миллиона лет назад, и возникла она далеко не сразу после того, как первые Homo «слезли с деревьев». «Вспомните эпоху динозавров: в ее начале динозавры были крупнее, чем в более поздние периоды, и постепенно их размеры уменьшались» (эссе «О будущем человечества», 2009) — на самом деле крупнейший из обнаруженных динозавров, аргентинозавр, жил около 100 миллионов лет назад, тогда как «эпоха динозавров» началась более чем 233 и закончилась около 66 миллионов лет назад.
«В более экстремальных случаях, таких как „Вавилонская библиотека“ Хорхе Луиса Борхеса, нет даже человекоподобных существ, которые могли бы заменить персонажей» («Фантастика в состоянии хаоса», 1999) — здесь лучше тысячи комментариев цитата из рассказа Борхеса: «Как все люди Библиотеки, в юности я путешествовал. Это было паломничество в поисках книги, возможно каталога каталогов; теперь, когда глаза мои еле разбирают то, что я пишу, я готов окончить жизнь в нескольких милях от шестигранника, в котором появился на свет. Когда я умру, чьи-нибудь милосердные руки перебросят меня через перила, могилой мне станет бездонный воздух; мое тело будет медленно падать, разлагаясь и исчезая в ветре, который вызывает не имеющее конца падение». Куда уж человечнее.
Лю Цысинь тот еще литературовед. Например, он настойчиво доказывает, что фантастику, популяризующую науку, придумал не Хьюго Гернсбек в 1920-е, не советские фантасты «ближнего прицела» (Виктор Сапарин, Владимир Немцов, Александр Казанцев и др.) в 1940–1950-е, а китайские авторы 1980-х: «Я не призываю всех современных фантастов писать в классическом стиле, но в научной фантастике по крайней мере должен быть поджанр, цель которого — популяризация науки и который уверен в себе и в своей миссии. <...> Более важно, что упомянутый поджанр фантастики является китайским изобретением» (статья «Иссякший поток», 2000).
Фрагменты, где писатель рассуждает об англо-американской, а тем более о советской НФ, лучше пропустить — чтобы не испытывать чувство жгучей неловкости за нашего большого китайского друга. С другой стороны, странно было бы ожидать глубокий и точный анализ зарубежной литературы не от историка или литературоведа, а от китайского IT-инженера, так что здесь обойдемся без претензий.
Куда любопытнее его рассуждения об оригинальной китайской НФ — эту литературу Лю Цысинь искренне любит и, рискну предположить, неплохо знает. Приведу пример. Синологи наверняка в курсе, но для читателей, далеких от истории литературы КНР, это, возможно, станет сюрпризом: когда в китайской прозе второй половины XX века появляется «некое крупное государство», этим словосочетанием как правило обозначается Советский Союз, «демоническая сила, которая стремится нас уничтожить». А запустил этот эвфемизм в оборот Тун Эньчжэн в фантастической повести «Луч смерти на коралловом острове», написанной в 1960-м и опубликованной в 1978-м (чем объясняется такой разрыв, Лю Цысинь умалчивает: видимо, что-то случилось — например, Эньчжэн уехал отдыхать на Гавайи да там и остался).
Если верить статье «Забытые шедевры» (2003), главная Империя Зла в китайской фантастике 1970–1980-х — не капиталистические США и даже не милитаристская Япония, а именно Советский Союз. «СССР строит огромную военную базу в космосе, чтобы атаковать Землю» в романе Ю И «Таинственный сигнал» (1979) и «использует парашютно-десантные войска для вторжения в Китай» в повести Ху Сяолиня «Мост» (1979). Неисправный робот пытается бежать в СССР в «Бета-загадке» (1984) Лю Чжайгоуй, а в «Камнях Нуа» (1981) Вэй Яхуа молодая женщина отказывается продавать метеорит покупателям из СССР и вместо денег «просит вернуть китайские территории, которые оккупировал Советский Союз». В «Квартале № 16» (1980) Ху Гэнь советские спецназовцы убивают одного из китайцев, которые высадились на островке земли, внезапно возникшем посреди океана, а в «Жуке-вонючке профессора Бадовского» (1979) Чэнь Гуанцюнь безумный ученый из СССР создает робота для поиска партизанских отрядов в африканских джунглях.
Неизвестно, изменились ли литературные приоритеты Лю Цысиня после вручения «Хьюго», многочисленных экранизаций, признания его заслуг китайскими капитанами бизнеса и партийным руководством. Не исключено, что какие-то перемены произошли, во «Взгляде со звезд» писатель показывает себя человеком довольно гибким, сторонником морального релятивизма и ситуативной этики: «Мир, созданный писателем-фантастом, показывает нам, какой слабой и неэффективной является наша мораль и система ценностей... „Правильно“ и „неправильно“, „добро“ и „зло“ — такие понятия имеют смысл только в контексте соответствующего мира» («По ту сторону нарциссизма», 2009). Лю Цысинь не раз признается, что вынужден подстраиваться под конъюнктуру рынка и, например, экспериментировать с нелюбимой социальной НФ, в том числе в первых двух частях трилогии «В память о прошлом Земли». При этом его самого всегда тянуло к фантастике, которая, цитирую, «фокусирует свое внимание на улучшении технологий и научном мышлении» («Возвращение в Эдем», 2010).
Все это, надо признать, и впрямь до боли напоминает постулаты советских фантастов «ближнего прицела», прежде всего Александра Казанцева (1906–2002), с которым Лю Цысиня часто сравнивают недоброжелатели — напомню, этот исторический персонаж стал одним из прототипов профессора Выбегалло из повестей братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о Тройке». И все же сравнение, мне кажется, не вполне корректно. У автора «Задачи трех тел» есть два серьезных отличия от недоброй памяти Александра Петровича. Во-первых, Лю Цысинь охотно признает фактические ошибки и даже благодарит особо въедливых читателей — по крайней мере, так обстояло дело на момент публикации этого сборника.
Ну а во-вторых — и в главных, он не претендует на исключительную правоту и не призывает Партию и Правительство с корнем выкорчевать всех этих «абстракционистов от НФ», выжечь каленым железом фантастику, не соответствующую его представлениям о прекрасном: пусть соперничают сто школ!
Замечательные человеческие качества, которые, мне кажется, многое искупают.