Аллен Гинзберг. Вопль. Кадиш. Стихотворения 1952–1960. СПб.: Подписные издания, 2021. Перевод с английского Дмитрия Манина
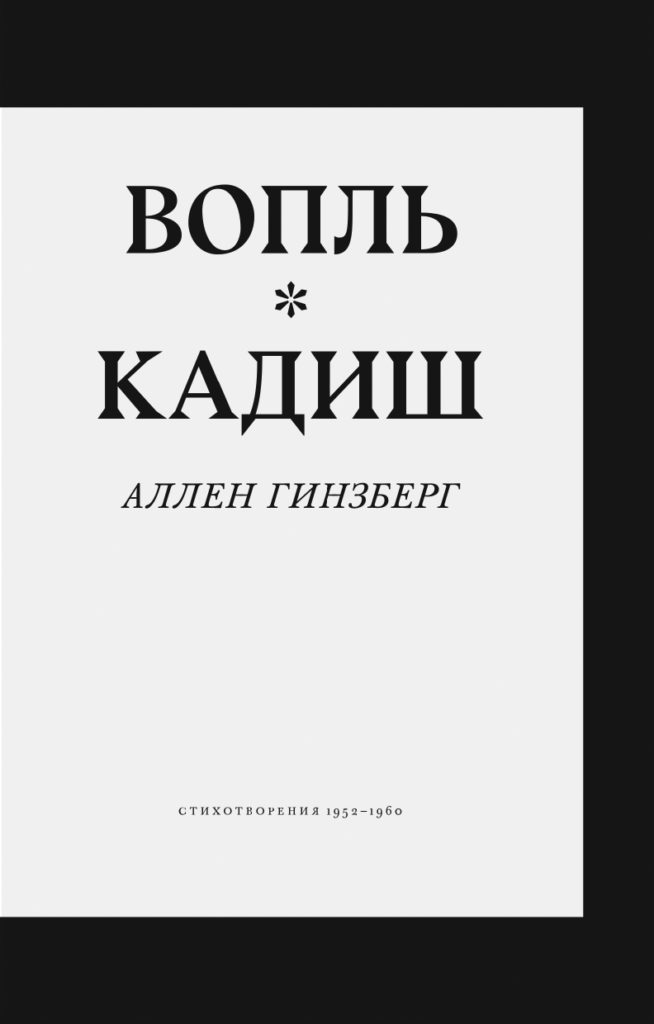 «Вопль» — самый известный текст битнической поэзии. Он открывает дебютный сборник Гинзберга «Вопль и другие стихотворения» — одну из самых взрывных, яростных поэтических книг, написанных на английском. Заглавный текст следующего сборника Гинзберга — «Кадиш» — и контрастирует с «Воплем», и продолжает его. Слово «кадиш» (каддиш) может означать разные иудейские молитвы, но чаще всего его применяют к молитве погребальной, и Гинзберг имеет в виду именно это: его поэма посвящена памяти матери.
«Вопль» — самый известный текст битнической поэзии. Он открывает дебютный сборник Гинзберга «Вопль и другие стихотворения» — одну из самых взрывных, яростных поэтических книг, написанных на английском. Заглавный текст следующего сборника Гинзберга — «Кадиш» — и контрастирует с «Воплем», и продолжает его. Слово «кадиш» (каддиш) может означать разные иудейские молитвы, но чаще всего его применяют к молитве погребальной, и Гинзберг имеет в виду именно это: его поэма посвящена памяти матери.
В этом издании Дмитрий Манин — один из пионеров литературного Рунета, переводчик таких разных поэтов, как Бернс и Малларме, — впервые представил на русском оба сборника целиком. (Заметим, что обложка отсылает к оформлению оригинальных книг магазина City Lights — тонкая игра петербургских «Подписных изданий».) Книга снабжена предисловием и комментариями Дмитрия Хаустова: в предисловии кратко и внятно рассказано, как складывалось бит-поколение и как стартовала карьера Гинзберга — главной рок-звезды американской поэзии. Здесь же даны биографические сведения, особенно важные для понимания «Кадиша», который выстроен вокруг воспоминаний о душевной болезни Наоми Гинзберг. Примечания поясняют многие американские реалии, которыми пестрят гинзберговские сборники, — но подчас явно излишни: «Гималаи — высочайшая горная система мира».
Временной промежуток в шестьдесят лет выставляет и буферную зону между подрывной силой «Вопля» и нами. Здесь могут помочь новейшие аналогии: чтение Гинзберга позволяет осознать, какой фундамент лежит под современной политической и конфессиональной поэзией, в том числе русской. Читатель сегодняшней русской поэзии наверняка сможет провести параллели между «Воплем» и стихами-манифестами Галины Рымбу, от «Я перехожу на станцию Трубная и вижу — огонь...» до «Моей вагины»; между «Кадишем» и «Одой смерти» Оксаны Васякиной; между «Америкой» — постиронией до постиронии — и текстами Романа Осминкина. Прямая связь — какая была с гинзберговскими стихами у радикальных опытов Ярослава Могутина — здесь необязательна. Судя по всему, потенция свободного стиха, открытого для Америки Уитменом — и основывающегося, в конце концов, на стихе библейском, — время от времени запускает собственное обновление. Это обновление берет в союзники политическую повестку — и сплавляет ее с личной историей, личной страстью, которые поэт ультимативно предлагает разделить. Так у Гинзберга родные и близкие поэта — мать Наоми, отец Луис, тетка Роза, брат Юджин, любовник Питер Орловски, друг Джек Керуак — вписываются в исторический канон наряду с поэтическими учителями: Уитменом, Аполлинером, У. К. Уильямсом, Маяковским, Паундом. Или наряду с политическими знаками эпохи: «Вселенной разбиться / вдребезги грядущим / атомным взрывом коль / Эйзенхауэр некогда Президент / земли именуемой С. Ш. А. / Грегори написал Бомбу!» — речь идет о только что написанной поэме друга Гинзберга Грегори Корсо.
Рассуждая о битнической концепции «нового видения», Дмитрий Хаустов поясняет, что «новый опыт в поэзии или в жизни хорош уже тем, что он — новый». В случае Гинзберга это справедливо в отношении того личного компонента, которым поэт насыщает профетическую риторику — сама же она на протяжении многих столетий сохраняет способность с этой новизной соединяться. «Что толку писать аще дух не ведет за собой», — так Гинзберг заканчивает стихотворение «Мескалин», и церковнославянизм, выбранный переводчиком Маниным, здесь оправдан.
Та же лексика звучит в переводе стихотворения «Конец»: «Я есмь я, Старина Рыбий Глаз иже роди океан, червь у моего же уха, змей обвившийся вокруг древа...» Следом мы увидим в перечислении «судороги ****, визг тормозов, фурий стонущих басами, память выцветающую в мозгу, людей подражающих псам... женский живот, юношу расправившего свои груди и ляжки для секса, елду воспрявшую внутрь...» Здесь — важное для Гинзберга соположение сакрального и сексуального (стоит вспомнить, что суд над «Воплем» по обвинению в непристойности состоялся, когда в США еще действовали законы против гомосексуалов). У того, что ханжеский взгляд видит профанным, очень много общего с религиозным. «Свят мир! Душа свята! Кожа свята! Нос свят! Язык свят и елдак и рука и очко святы! / Все свято! все святы! везде свято! все дни суть в вечности! Всяк человек ангел!» — экстатически восклицает Гинзберг в «Примечании к „Воплю”», подхватывая эхо уитменовского «Электрическое тело пою!». «Я ненавидящий Бога и именующий его» — это признание в раздвоенности глубже наркотического подтекста, который предполагает название стихотворения «Лизергиновая кислота».
Диалектическая связка профанного и сакрального в поэзии Гинзберга проявляется и в самом противопоставлении/единстве «Вопля» и «Кадиша». «Кадиш» интонационно разнообразней «Вопля», в каком-то мрачном смысле — торжественней. Но и «Вопль» — своего рода кадиш по пожираемому «Молохом безлюбым, Молохом безумным» поколению — тем духовным братьям Гинзберга,
что штудировали Плотина По Хуана де ла Круса телепатию и боп-каббалу потому что
Вселенная безотчетно вибрировала у них под ногами в Канзасе,
что в одиночку искали по Айдахо индейцев-мистиков ангельских что и были индейцы
мистики ангельские,
что только и сознавали свое безумие когда Балтимор воссияет сверхъестественным восторгом,
что прыгали внезапно в лимузин к оклахомскому китайцу ибо полночь зима и дождь в фонарях городка,
что шатались голодные одинокие по Хьюстону в поисках джаза иль секса иль супа,
и тянулись за блестящим испанцем потолковать об Америке и Вечности, гиблое дело, и так уплывали в Африку,
что без следа растворялись в мексиканских вулканах только тень джинсов оставив и лаву и пепел стихов развеянных в каминном Чикаго,
что всплывали на Западном берегу расследуя ФБР в бородках и шортах с голливудским загаром и круглыми глазами пацифистов раздавая невразумительные листовки,
что прижигали себе руки сигаретой протестуя против дурманного угара капитализма,
и так далее, эта литания тянется долго-долго.
Может быть, самое чистое выражение этой общности — победительное прорастание цветка сквозь тело техносоциального Молоха — мы видим в стихотворении «Сутра подсолнуха», где Гинзберг запечатлевает память об эпифании, полученной при чтении стихов Блейка:
— Мы — не шкура мерзостная, мы не жуткие мрачные пыльные безвидные локомотивы,
мы — златые подсолнухи внутри, благословенные собственными семенами и волосатыми голыми телами наших побед, вырастающими в шальные черные формы подсолнухов на закате, высмотренные нашими же глазами в тени бешено-локомотивно-прибрежно-закатно-консервно-холмисто-Сан-Францисско-вечернего видения.
Все это должно произноситься на одном дыхании, лишь с крошечными паузами. Гинзберг, постоянно работающий с перечислением, ввел замечательный термин «breath unit», «единица дыхания». Чтобы оценить удачность перевода Дмитрия Манина, нужно попробовать читать его вслух, говорить этими единицами. Долгие русские причастные обороты усложняют эту задачу — но, с другой стороны, позволяют тренировать дыхание. Манин чувствует, что гинзберговский ритм задается телом, а перечисление оказывается телесно-духовной практикой.
Лариса Йоонас. Пустоши флайтрадара. М.: АРГО-РИСК, 2021
 В предисловии к «Мировому словесному электричеству» — предыдущей книге Ларисы Йоонас — Ольга Балла указывала на интонационное сходство ее поэзии с текстами крупнейшего эстонского поэта Яна Каплинского. Это влияние неудивительно — и в новом сборнике также чувствуется. Каплинский умеет пробудить в окружающем мире потенциал молчаливого диалога со всей вселенной; его письмо медитативно и протяжно, оно идеально подходит для создания пустых или малонаселенных пейзажей, пространств. То же умение («страны салютуют неразличимые между собой яркие как фейерверки / мы будто кроты следуем за тобой по земле / двигая самолет одной нашей любовью по пустоши флайтрадара») есть у Ларисы Йоонас — но если во многих стихах Каплинского не остается никакой надежды на посмертие, то для микроэлегий Йоонас характерна микроскопическая, стоическая надежда. Она, впрочем, никогда не бывает сладка:
В предисловии к «Мировому словесному электричеству» — предыдущей книге Ларисы Йоонас — Ольга Балла указывала на интонационное сходство ее поэзии с текстами крупнейшего эстонского поэта Яна Каплинского. Это влияние неудивительно — и в новом сборнике также чувствуется. Каплинский умеет пробудить в окружающем мире потенциал молчаливого диалога со всей вселенной; его письмо медитативно и протяжно, оно идеально подходит для создания пустых или малонаселенных пейзажей, пространств. То же умение («страны салютуют неразличимые между собой яркие как фейерверки / мы будто кроты следуем за тобой по земле / двигая самолет одной нашей любовью по пустоши флайтрадара») есть у Ларисы Йоонас — но если во многих стихах Каплинского не остается никакой надежды на посмертие, то для микроэлегий Йоонас характерна микроскопическая, стоическая надежда. Она, впрочем, никогда не бывает сладка:
Все мы умрем но иные умрут безвозвратно
а иные воскреснут им воздастся по вере их
так мы и будем дальше обитать на этой планете
кто-то бессмертен и жив кто-то исчез навсегда
кошка воскреснет она верит в людей и любимых
будет искать меня в папоротниковых и тисовых рощах
мяукая или молча со слезами в изумрудных глазах
Оптика Йоонас предполагает иллюзорность человеческого существования («Девочка играющая на скрипке у рейнского водопада / неразличимая в реве голубой и зеленой воды / я подхожу к ней все ближе и ближе / и прохожу сквозь нее и все еще не слышу ни звука») — но и благодарность за это существование, за возможность осознания и называния себя и других. Из тайных имен близких «можно составить словарь благодарности / единственного источника все еще согревающего тела». Свидетелями нашей земной жизни и исчезновения в этих стихах становятся животные, а еще — вещи, также вовлеченные в орбиту заботы и благодарности: «голубокрылый холодильник», «беззвучный телевизор» и другие.
Мне нравилась прежняя стиральная машинка
теперь я не помню даже как она выглядела как называлась
какие там были кнопки или ручки как закрывалась дверца
но я уверена что если еще раз ее увижу то узнаю
едва коснувшись пойму что это она
по теплому дыханию из ее глубин по теплоте переключателей
по ее движению в своем тяжелом труде
благодарность благодарность и еще раз благодарность
надеюсь что в мире людей не стыдно быть
благодарным стиральной машинке.
«Ночью случится большой ветер / и унесет с веревки промокшие вещи» — почти что сценарий для фильма-катастрофы (несчастные вещи «тщетно хлопают крыльями / упираясь уставшим телом в тьму урагана»). Одушевление вещей, очеловечивание животных — прием, работающий подобно биноклю: если посмотреть с другой стороны, привычные дела людей превратятся в миниатюрную диковину, «наше бессмысленное смешное человеческое кино». В этом остранении собратом Йоонас можно назвать Андрея Сен-Сенькова — с той оговоркой, что Йоонас все время помнит о вселенской перспективе, которая над этим смешным кино разворачивается. Важно, что пустоши флайтрадара — это европейские пространства («Ты пролетаешь над Потсдамом / над Гданьском влетаешь в пространство тьмы»), и само письмо живущей в Эстонии Йоонас — подчеркнуто европейское. Читаешь, например: «Что могло мне присниться в этих горах / покрытых курчавой шерстью виноградников / кроме гор и рек и бархатных лугов» — и как будто видишь некую геральдическую ленту, заверяющую принадлежность этих стихов к большой модернистской традиции. Это традиция поиска истинного пространства за миром городов и людей. Неудивительно, что такие пространства часто являются во сне — мотив сновидения для «Пустошей флайтрадара» очень важен.
Сладкое дыхание полуденный сон исчезновение в безмятежность
путешествие вниз или вверх между воздухом и невидимой водой
разрежение чистоты немота как распускающийся бутон как
берега рек нагреваемых выцветающим истончающимся песком
легким венком сновидений стекающих по прозрачному веку
в сознание уходящее на дно бегущее за самим собой
последним неверным движением ветра касающееся твоей руки.
Для сновидческого письма, помнящего — может быть, невольно — о миметической задаче, характерно стремление к расплывчатости, к ускользанию. Но в целом «Пустоши флайтрадара» — очень внятная книга. В своих медитациях Йоонас почти никогда не прибегает к затемняющей смысл метафорике, редко изменяет найденному и комфортному для говорения ритму — а если такое и происходит, то лишь для усиления внятности. Например, в разделе «Усыновление временем», где вообще нарастает градус личных эмоций, тавтологическая рифма призвана упрочить поэтическую самоидентификацию: «Вот мое время, / тикающее у меня на языке. / Когда я говорю на моем языке, / мои белые лилии, тускло светясь, вырастают на моем языке. / <...> Малые дети молчат на моем языке, / белые трубы извергают тьму на моем языке», и так далее. Несмотря на отмеченные сходства с другими авторами, самость языка Ларисы Йоонас мне кажется несомненной. Есть ощущение, что эта книга закрывает какую-то лакуну — обнаруживаемую лишь постфактум, как бывает с пролетевшими мимо Земли метеоритами или предотвращенными болезнями.
Данил Файзов. Именно то стихотворение которое мне сегодня необходимо. М.: ОГИ, 2020
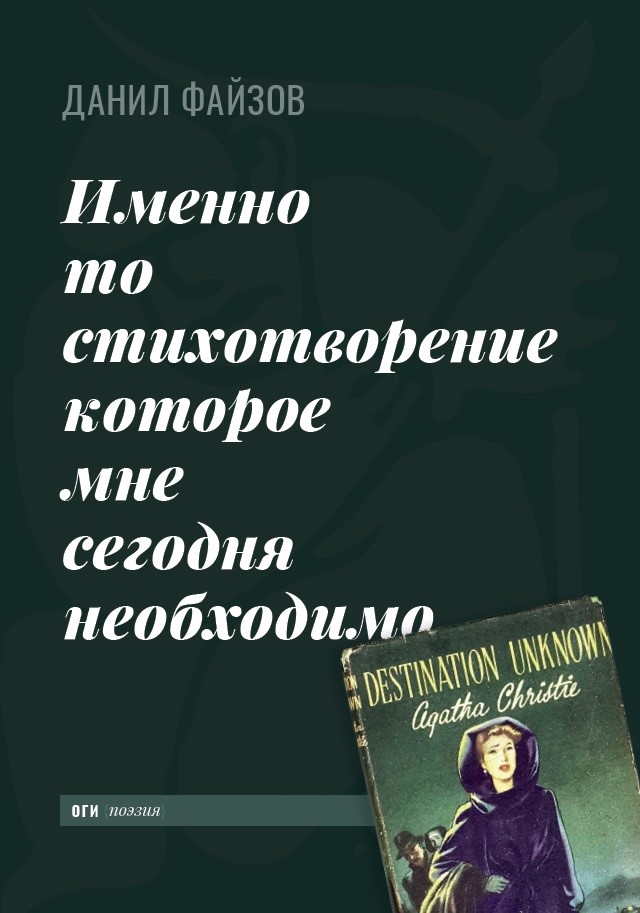 Одна из главных тем книги поэта и литературтрегера Данила Файзова — детство. Это не впервые: еще в дебютном сборнике Файзова «Переводные картинки» были опубликованы циклы «Летние каникулы» и «Зимние каникулы», где ностальгически воспроизводились детские топосы, запоминающиеся и яркие образы (отсюда и название того сборника). Но в «Именно том стихотворении» детское прошлое, равно ностальгическое и репрессивное («сложнее пополам учить летать / на задней парте втайне от училки / мохнатый шлем в разбившейся копилке / бумажный мальчик остается все равно / пропавшим капитаном но опять / к доске и отвечайте как учили»), сталкивается с настоящим. Файзов много пишет о своей дочери, о ее внутреннем мире, о создании атмосферы любви, в которой должен расти ребенок:
Одна из главных тем книги поэта и литературтрегера Данила Файзова — детство. Это не впервые: еще в дебютном сборнике Файзова «Переводные картинки» были опубликованы циклы «Летние каникулы» и «Зимние каникулы», где ностальгически воспроизводились детские топосы, запоминающиеся и яркие образы (отсюда и название того сборника). Но в «Именно том стихотворении» детское прошлое, равно ностальгическое и репрессивное («сложнее пополам учить летать / на задней парте втайне от училки / мохнатый шлем в разбившейся копилке / бумажный мальчик остается все равно / пропавшим капитаном но опять / к доске и отвечайте как учили»), сталкивается с настоящим. Файзов много пишет о своей дочери, о ее внутреннем мире, о создании атмосферы любви, в которой должен расти ребенок:
я ссадила руку но не плачу
я сегодня в садик не иду
я все деньги на морожено потрачу
а не на какую-то еду
А и Б не просто в этом мире
день двадцать второго сентября
в нашей однокомнатной квартире
просыпается
рыжая поэзия моя
Это написано нарочито непритязательно: как бы вприговорку, чтобы не впадать в совсем уж сентиментальность. Но это написано про главное — про то, что помогает жить («Юла не упадет и я живу»). Дочь, «рыжая поэзия», здесь открыто ассоциируется с музой; такая муза вызывает к жизни самые разные жанры, в том числе поэтические нравоучения, которые Файзов объединяет в цикл «Воспитательные верлибры»:
дочь
как же попроще объяснить
конечно проще всего поверить папе и маме
на слово
что нажимать на все кнопочки
которые тебе попадаются
не надо
но можно ведь иначе
смотри:
мама или папа долго работали на компьютере
потом подошла ты
и маленьким пальчиком нажала на какую-то кнопку
и то что делали папа или мама
стерлось
и папе или маме придется опять много-много времени
восстанавливать
конечно они будут ругаться
они не смогут читать тебе книгу
а тебе это надо?
Парадоксальным образом на фоне «воспитательных верлибров» другие тексты книги производят впечатление сознательной неупорядоченности: они запечатлевают сталкивающиеся мысли, «нет времени уже не первый акт / а ружья эти траченые молью / у чеховых стреляют в головах / и отдаются болью головною». Перед нами наброски, сделанные быстрой кистью, вмешивающие в передаваемое настроение бытовые детали наравне с известными цитатами: «давай с тобой поедем в город / где прежде не бывали / чтоб кремль трактиры и соборы / без орденов и без медалей». Стихотворение пролетает от посыла в первой строке до пуанта в последней — в результате даже печаль и смятение, явленные в деталях, оказываются заострены и облегчены:
пальцы заплетаются в печали
пальцам разное навеяло
пальцы не работают врачами
им иное в жизни велено
ткать какие-то смешные паутинки
тыкать в бровь и даже прямо в глаз
пальцы это хитрые хитинки
распускающие чудо между нас
В качестве подзаголовка этой книге подошло бы недавнее пелевинское название: «Искусство легких касаний».
Ростислав Ярцев. Нерасторопный праздник. М: ЛитГОСТ, 2021
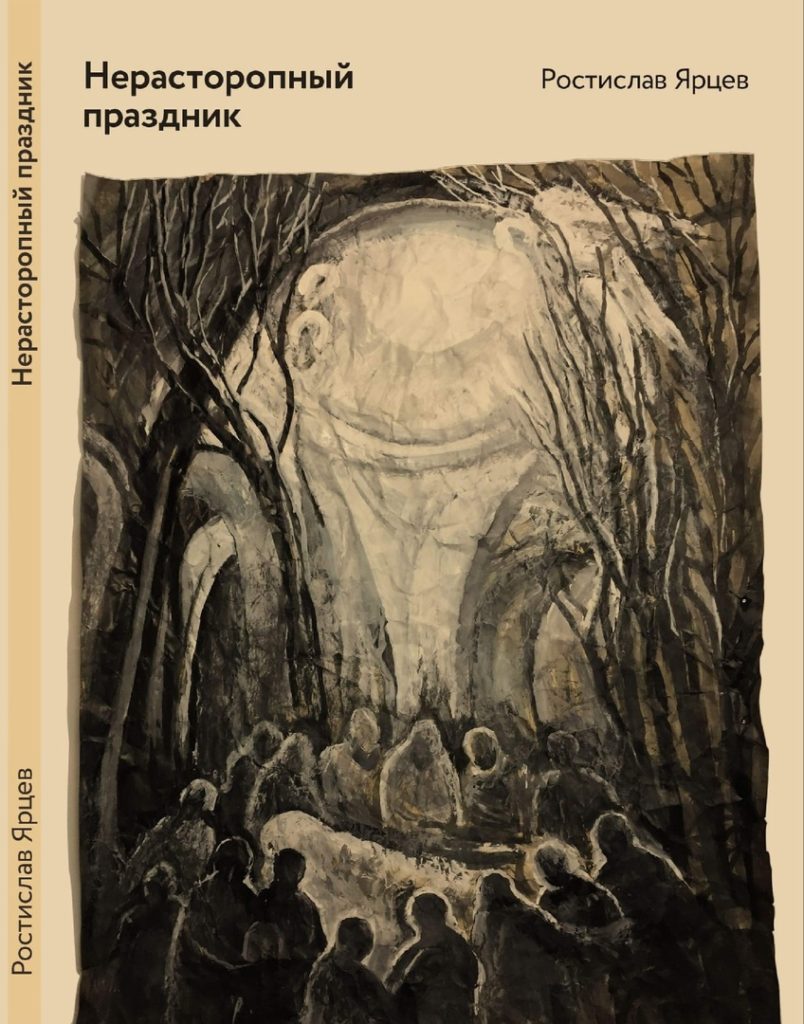 «Нерасторопный праздник» — дебютная книга. Как нередко бывает с дебютами, это демонстрация разносторонних умений — формальных и жанровых. Перед нами поэт, активно экспериментирующий, живо откликающийся на чужие голоса. В послесловии к книге Константин Рубинский приводит слова Ярцева: «Как будто бы это еще не я, как будто бы тот, что надо, я еще впереди, но дойти туда никак не получается».
«Нерасторопный праздник» — дебютная книга. Как нередко бывает с дебютами, это демонстрация разносторонних умений — формальных и жанровых. Перед нами поэт, активно экспериментирующий, живо откликающийся на чужие голоса. В послесловии к книге Константин Рубинский приводит слова Ярцева: «Как будто бы это еще не я, как будто бы тот, что надо, я еще впереди, но дойти туда никак не получается».
Слово «нерасторопный» в применении к этому калейдоскопу экспериментов кажется поначалу неверным. В книге есть и составленные из фрагментов полиритмические поэмы («Рафинад», связывающий воспоминания о бабушке поэта с ассоциативным комплексом сахара — от сладости до диабета), и достаточно пространные, можно даже сказать велеречивые стихотворения («Последние стихи 2019 года»), и трагииронические баллады, и совсем небольшие тексты, по которым видно, как важен для Ярцева звук. Моностих «вместо бегства — детство: Бог с ним, поздним» отчетливо раскладывается на четыре отрезка, придающих этому микротексту сюжет. Или, например, примечательное стихотворение, в котором близкое звучание слов скрепляет смысловое единство:
облако близкое низкое вязкое
я им почти что брезгую
резкую
перемену ветра ли
ждать или с титрами
проливными
сидеть у окна
дотемна
В подтексте здесь чувствуется «animula vagula blandula» — как и в строках из другого стихотворения: «прожилка стебель завиток / завивка выкройка украдка / зачем уходишь поутру». Диапазон подтекстов и интонационных отсылок в книге вообще велик: от Адриана и Сапфо до Мандельштама и Гумилева (стихотворение «Вышел Гоголь из шинели» — оммаж «Дайте Тютчеву стрекозу...», а «Никогда не пойму, почему я...» — очевидный ремейк «Моих читателей»). Здесь пахнёт Бродским, здесь Сергеем Чудаковым, здесь даже Приговым: «так интернет читать устанешь / и новости читать устанешь / но все равно не перестанешь». Есть, конечно, и ноты новейшей русской поэзии. Вот вполне гаричевская строфа у Ярцева: «расскажи про клейкие листочки, / насмеши по скайпу детвору — / повстречают смерть поодиночке, / прогуляют школу поутру».
Легкое дело — упрекнуть поэта в подражательности. Но нужно заметить, что все эти реминисценции — в первую очередь музыкальные приемы. Полина Барскова в предисловии к «Нерасторопному празднику» сопоставляет «ученость» стихов Ярцева с их тяготением к «песенке». Тем самым она указывает на свойственный всей книге контрапункт: с одной стороны, лексическая и интонационная инклюзивность, с другой, определенный — и проблемный — жанровый консерватизм. «Песенка» — жанр неканонический; жанр ли это вообще? Тут уместно вспомнить и «песеньки» Олега Юрьева, и песенные стихи Василия Бородина. Пение — слишком обширная территория, чтобы попросту отсылать к ней без уточнений. Но при всей возможной спонтанности песня требует если не специальной подготовки, то готовности — готовности петь.
И здесь мы, кажется, нащупываем и единство за разнообразием ярцевских экспериментов/реминисценций, и понимание, почему его праздник — «нерасторопный». Ярцев, с декларативной сознательностью, ориентирован на возвышенное: «в голосе взвесить сурьму и известь / Господи / помоги». Иногда это грозит умилением «не по адресу»: «наших святых грехов / нерасторопный праздник». Но в целом возвышенность риторики естественным образом означает адресацию к высочайшей инстанции — с Которой можно позволить себе и дерзость: «зá полночь накачиваться дымом / утром просыпаться нелюбимым / не молиться Богу своему / (как Ему на небе одному?)». Соучастником здесь становится читатель: многие стихи книги, при всей компактности, устроены как развернутые высказывания, предполагающие собеседников. Эти высказывания не обязательно логичны: риторические фигуры могут служить только для упорядочивания экстаза, захвата противоположностей.
твой бог — гипербола, излишек,
огонь на страшной высоте.
чтó он умеет, чтó он слышит,
распят на крошечном кресте?
он ждет и помнит, спит и видит
и мертв, пока ты не умрешь.
но сам к себе со светом выйдет —
не отвернешься, не соврешь.
и станет жутко до прожилок,
светло, как не было во сне,
у очевидцев шестикрылых,
сжигающих твое досье.
Лучшие стихи в книге — или те, где Ярцев выдерживает это риторическое напряжение, или те, где он успевает себя оборвать, пока не начинается пение ради фиоритур («со мною квирным и порфирным / сапфирным избранным псалтирным / ты будешь лебедем надмирным / картинным лебедем квартирным» и т. д.). Цитата, приведенная Рубинским, многое объясняет: эта книга — о поиске «я» в большом здании-лабиринте, и «я» постоянно оказывается не в этих комнатах. Радость в том, что в этом квесте волшебные препятствия — стены чужого звучания — оборачиваются волшебными помощниками. «Нерасторопный праздник» завершается разделом благодарностей. Но и во всей книге Ярцеву удается совмещать роль певца, который приглашает аудиторию следовать за собой, — с ролью благодарного слушателя, который обращает себе на пользу звуковые подсказки.
