Всех подряд кочергой: книги недели
Что спрашивать в книжных
Сборник работ Григория Кружкова, исток аболиционистской литературы, беседы об отечественном кино и еще две достойные новинки выловили в океане изданий чуткие, как вибриссы, редакторы «Горького» (они вернутся через неделю с новыми гостинцами).
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Григорий Кружков. Колпак с бубенцами. Из английской комической поэзии. М.: Центр книги Рудомино, 2023. Содержание
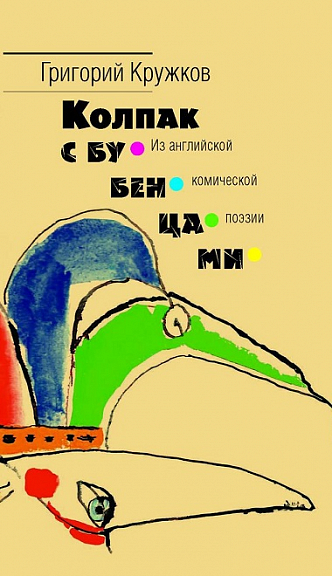 Название недавно вышедшего сборника переводов и собственных стихов Григория Кружкова недвусмысленно отсылает к поэзии Йейтса — собственно, на обороте суперобложки даже процитирована строфа из стихотворения «Шутовской колпак» про «шапку с бубенцами», которую несчастный шут посылает своей возлюбленной-королеве в последней надежде смягчить ее сердце. Кружков, как известно, много и замечательно переводил и из Йейтса, и из других ирландских поэтов, но новая его книга по самой своей теме исключительно английская (хотя и в нее проникли переводы пары стихотворений Джойса).
Название недавно вышедшего сборника переводов и собственных стихов Григория Кружкова недвусмысленно отсылает к поэзии Йейтса — собственно, на обороте суперобложки даже процитирована строфа из стихотворения «Шутовской колпак» про «шапку с бубенцами», которую несчастный шут посылает своей возлюбленной-королеве в последней надежде смягчить ее сердце. Кружков, как известно, много и замечательно переводил и из Йейтса, и из других ирландских поэтов, но новая его книга по самой своей теме исключительно английская (хотя и в нее проникли переводы пары стихотворений Джойса).
Главное место в ней отведено поэзии нонсенса — если и не сугубо английскому изобретению, то уж во всяком случае очень славной странице в истории английской литературы. Книга состоит из двух разделов, и в первом представлены «три столпа» английской абсурдной поэзии — фольклорный сборник «Песни Матушки Гусыни», Эдвард Лир и Льюис Кэрролл. За первым разделом следует второй — «Предтечи и последователи», в котором собраны стихи тех английских поэтов (и самого Григория Михайловича), которые, по мнению автора, имеют большее или меньшее отношение к традиции нонсенса. Там можно встретить имена Шекспира, Донна, Кольриджа, Китса, Честертона и других — за свою переводческую карьеру Кружков перевел немало классических и современных англоязычных поэтов, было из чего выбрать.
При, казалось бы, очевидной ориентации на шуточную, даже детскую поэзию, книга рассчитана на взрослого читателя, потому что переводы стихов в ней перемежаются вполне серьезными статьями автора, посвященными английским поэтам и поэтическим направлениям, а между двумя ее разделами притаилось большое эссе, в котором Кружков предпринимает нетривиальную попытку ответить на крайне непростой философский вопрос: что такое человеческий смех и какова его природа? Словом, сборник вышел очень симпатичный, приглашающий и посмеяться, и подумать.
Жил один старичок с кочергой,
Говоривший: «В душе я другой».
На вопрос: «А какой?»
Он лишь дрыгал ногой
И лупил всех подряд кочергой.
Винсент Карретта. Эквиано, Африканец. Человек, сделавший себя сам. СПб.: Алетейя, 2023. Перевод с английского Сергея Зухера. Содержание
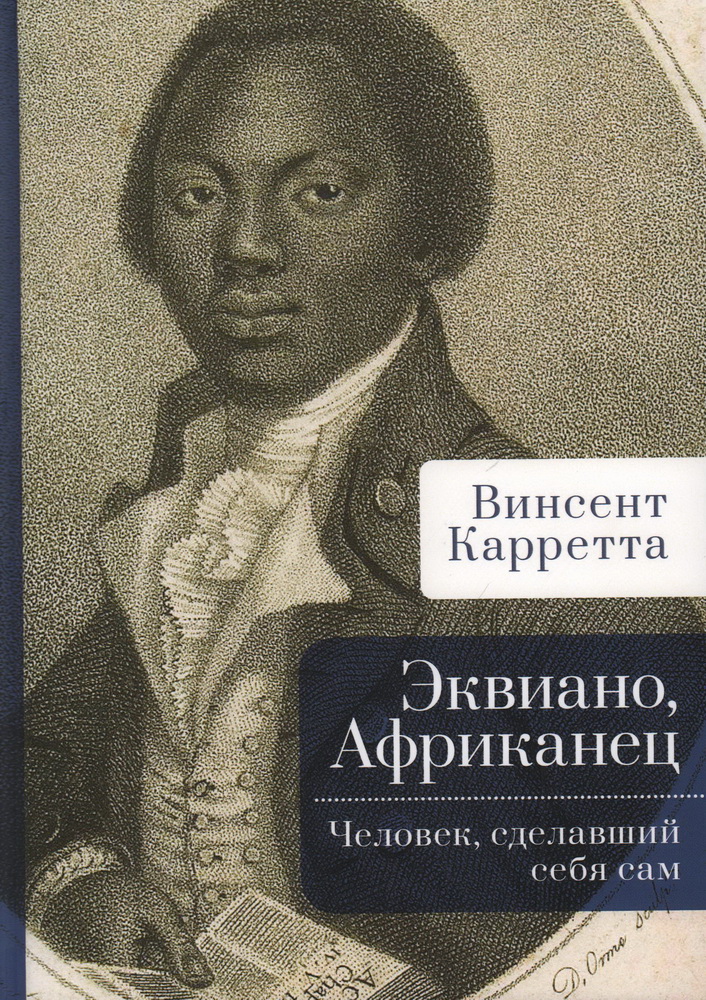 Имя Олауды Эквиано (1745–1797) уже знакомо нашим читателям: в прошлом году вышел первый полноценный перевод на русский его «Удивительного повествования». В этой книге, стоявшей у истоков аболиционистской литературы, он описал свою судьбу, для которой эпитет «удивительная» даже слишком скромный.
Имя Олауды Эквиано (1745–1797) уже знакомо нашим читателям: в прошлом году вышел первый полноценный перевод на русский его «Удивительного повествования». В этой книге, стоявшей у истоков аболиционистской литературы, он описал свою судьбу, для которой эпитет «удивительная» даже слишком скромный.
Если верить автору (а у исследователей все-таки есть сомнения по части некоторых фактов, изложенных в его мемуарах), он родился в семье африканского царя, был угнан в рабство, но благодаря чрезвычайной остроте ума сумел накопить состояние и выкупить себя у хозяина. После этого он увидел примерно весь мир, известный тогда европейскому человеку, самостоятельно обратился в христианство, побывал в полярной экспедиции и даже поучаствовал в первых экспериментах по опреснению морской воды.
Теперь на русском стало доступно одно из самых авторитетных исследований, посвященных выдающемуся «сыну Африки». Написал его Винсент Карретта, специалист по истории XVIII века. Отталкиваясь от биографии Олауды Эквиано, он рассказывает обо всем многообразии той эпохи, вместе с первым англоязычным чернокожим писателем отправляя нас в Африку, Европу, Вест-Индию и совсем молодые на тот момент Соединенные Штаты. В поле его внимания — история разных форм рабства, одной из которых было принудительное переселение африканцев с родного континента, быт высших и низших сословий, политические дискуссии и религиозная мысль того времени.
В результате у Карретты получился не только подробнейший комментарий к книге о человеке, который «сделал себя сам» вопреки всем чудовищным обстоятельствам его жизни, но и вполне самостоятельный труд о неочевидных сторонах века великих перемен.
«Оппозиция африканской работорговле [в Британской империи] была внепартийной и надрелигиозной. Консервативные христиане считали ее греховной, политические реформаторы — противоречащей естественным правам человека, социальные реформаторы видели в ней систему угнетения, а экономисты-теоретики — неэффективность. Аболиционизм быстро стал истинно национальным движением».
Сост. Наталья Громова. Странники войны. Воспоминания детей писателей, 1941–1944. М.: Редакция Елены Шубиной, 2023. Содержание. Фрагмент
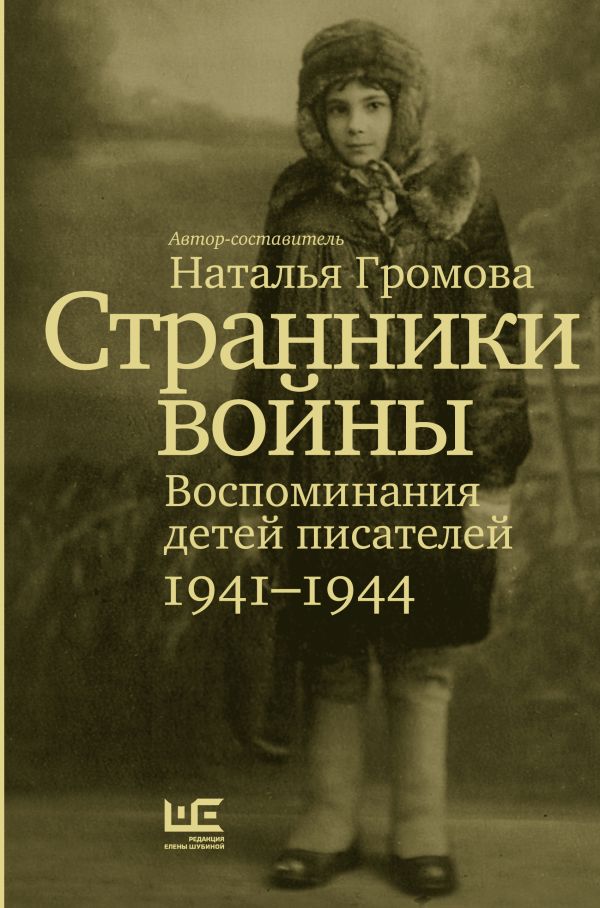 Летом 1941 года, когда нацистские войска напали на Советский Союз, детей московских писателей и переводчиков эвакуировали в Чистополь, что в Татарстане. В последующие несколько лет обитателями интерната Литфонда были Тимур Гайдар, Георгий Эфрон, пасынок Василия Гроссмана Михаил, Никита Шкловский (последние трое были уже достаточно взрослыми, чтобы уйти из Чистополя на фронт и там погибнуть).
Летом 1941 года, когда нацистские войска напали на Советский Союз, детей московских писателей и переводчиков эвакуировали в Чистополь, что в Татарстане. В последующие несколько лет обитателями интерната Литфонда были Тимур Гайдар, Георгий Эфрон, пасынок Василия Гроссмана Михаил, Никита Шкловский (последние трое были уже достаточно взрослыми, чтобы уйти из Чистополя на фронт и там погибнуть).
Младшим из интернатовцев пришлось нелегко: покинув дом, они вдруг очутились в обстановке, едва ли справлявшейся с задачей имитировать «нормальность». Становление личности в заведомо непригодной для этого среде — одна из ведущих сюжетных линий сборника.
Очень разные судьбы разных людей, объединенные приютившим их местом, собраны в книге «Странники войны». По большей части это прямая речь самих писательских детей, отправленных в чистопольскую эвакуацию. В книгу также вошли авторские очерки о тех, кто не дожил до конца мировой катастрофы.
«Отец был мобилизован на третий день войны. Детей писателей отправили в эвакуацию 6 июля. Только малыши до трех лет поехали с мамами. Из тех, кого определили в интернат и поселили в Берсуте, на высоком берегу реки Камы, я была, кажется, самой младшей и уж точно самой несамостоятельной. У меня была с собой кукла с закрывающимися глазами, и я всем говорила, что не умею читать. Я пыталась жить в том, навсегда исчезнувшем мире, с папой и мамой, с „Оливером Твистом“ и Диком, и безнадежно не ориентировалась в новой реальности». (Из воспоминаний Софьи Богатыревой)
Армен Медведев. Сослагательное наклонение. Беседы по истории отечественного кино. М.: Издательство Дединского / Киноведческая артель 1895.io, 2023. Содержание
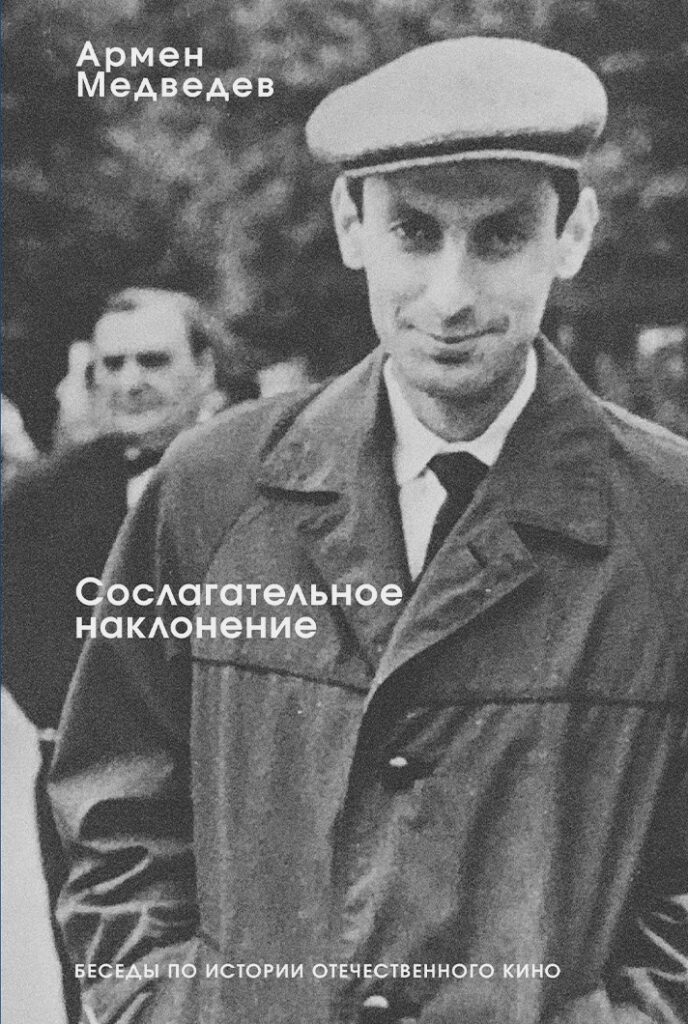 Не самая новая из попадающих в наши руки новинок, однако безусловно заслуживающая внимания, поэтому освещаем ее с некоторым опозданием. Заслуженный советский киновед Армен Медведев (1938–2022) в конце 2000-х начал читать во ВГИКе курс лекций по истории отечественного кино для киноведов начинающих, а один из его студентов, Султан Усувалиев, стал записывать его выступления, расшифровывать их, и со временем из этого выросла солидного размера книга, представляющая большой интерес для широкого читателя, хоть она и основывается, повторимся, на кратком изложении базовых вещей первокурсникам. Лекции Армена Николаевича подкупают в первую очередь несколькими вещами: доверительной интонацией, побуждающей к самостоятельному изучению того, о чем идет речь, методическим сомнением в любых, даже наиболее устоявшихся представлениях о классике и классиках, а главное — сугубо личным отношением к людям и событиям описываемой истории, непосредственным участником которой Медведеву так или иначе довелось быть. Это взгляд не просто кабинетного исследователя, но человека, который знал действующих лиц, или тех, кто их знал, или тех, кому по-настоящему было что о них сказать, вроде возникающих в беседе об Эйзенштейне Алексея Германа и Вадима Абдрашитова, и такое сочетание пропедевтики, глубоких познаний и персонального опыта весьма вдохновляет.
Не самая новая из попадающих в наши руки новинок, однако безусловно заслуживающая внимания, поэтому освещаем ее с некоторым опозданием. Заслуженный советский киновед Армен Медведев (1938–2022) в конце 2000-х начал читать во ВГИКе курс лекций по истории отечественного кино для киноведов начинающих, а один из его студентов, Султан Усувалиев, стал записывать его выступления, расшифровывать их, и со временем из этого выросла солидного размера книга, представляющая большой интерес для широкого читателя, хоть она и основывается, повторимся, на кратком изложении базовых вещей первокурсникам. Лекции Армена Николаевича подкупают в первую очередь несколькими вещами: доверительной интонацией, побуждающей к самостоятельному изучению того, о чем идет речь, методическим сомнением в любых, даже наиболее устоявшихся представлениях о классике и классиках, а главное — сугубо личным отношением к людям и событиям описываемой истории, непосредственным участником которой Медведеву так или иначе довелось быть. Это взгляд не просто кабинетного исследователя, но человека, который знал действующих лиц, или тех, кто их знал, или тех, кому по-настоящему было что о них сказать, вроде возникающих в беседе об Эйзенштейне Алексея Германа и Вадима Абдрашитова, и такое сочетание пропедевтики, глубоких познаний и персонального опыта весьма вдохновляет.
«Из стыдливости, что ли, мы не говорим, что один из первых, если не первый внятный звуковой полнометражный фильм назывался «13 дней. Дело „Промпартии“ (1930) — по одному из самых первых политических процессов, который происходил в Советском Союзе».
Олег Ивик. Троя. Пять тысяч лет реальности и мифа. М.: Ломоносов, 2023. Содержание
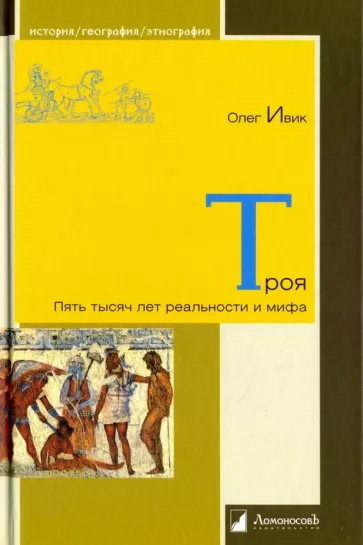 Переиздание удачной работы двухголового историка-любителя: дуэт Ольги Колобовой и Валерия Иванова набил руку в жанре популярных исторических изложений, где популярность подразумевает не посредственное качество изложения, а его доступность. Если вы хотели, избегая академического занудства, составить подробное представление об одном из парадигматических городов западного человечества (что там кроме Трои — Рим, Вавилон, Иерусалим?), то книга Ивика может вполне пригодиться.
Переиздание удачной работы двухголового историка-любителя: дуэт Ольги Колобовой и Валерия Иванова набил руку в жанре популярных исторических изложений, где популярность подразумевает не посредственное качество изложения, а его доступность. Если вы хотели, избегая академического занудства, составить подробное представление об одном из парадигматических городов западного человечества (что там кроме Трои — Рим, Вавилон, Иерусалим?), то книга Ивика может вполне пригодиться.
Подавляющая часть текста неизбежно вертится вокруг гомеровской поэмы, — раскопкам Шлимана, например, посвящена всего пара страниц, — и выходит, что на ней новейшая история Трои заканчивается. Авторы стараются по мере возможности заземлить реалии «Илиады» в конкретных археологических объектах, однако в отсутствие карт и фотографий практическая ценность этого предприятия несколько теряется. С реконструкцией и возгонкой возвышенной атмосферы места у Ивика куда лучше, но вот традиционная гладкость подачи — на любителя.
«Троя стоит на отшибе, здесь почти нет неорганизованных туристов. Нормальный турист приезжает сюда на двухчасовую экскурсию вместе с группой, фотографируется возле деревянного коня, покупает гипсового позолоченного Ахиллеса и едет дальше — в Измир, или в Эфес, или на пляжи Анталии. Соответственно, и для экскурсоводов Троя — не дело их жизни, а одна из многих курортных достопримечательностей. Что же касается археологов — участки, где они работают, огорожены, и подойти туда, чтобы поговорить со специалистами, нельзя».