Все не слава богу в доме Витгенштейнов
Cамые интересные книги недели по версии «Горького»
Биография семьи Людвига Витгенштейна в исполнении внука Ивлина Во, записки доброго палача XVI века, путеводитель по кельтским мифам, роман Юрия Домбровского в том виде, как его задумал автор, а также удивительные свойства языков, на которых говорит половина Земного шара. Иван Напреенко — о самых заметных новинках недели.
Александр Во. Дом Витгенштейнов. Семья в состоянии войны. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. Перевод с английского А. Васильевой
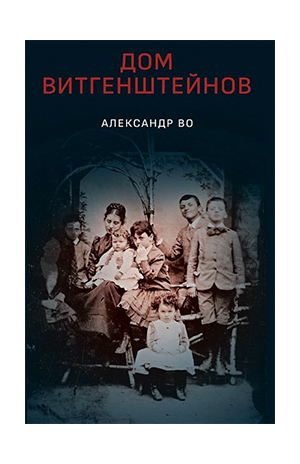 В своей первой биографической книге «Отцы и дети» Александр Во писал про папу Оберона и дедушку Ивлина — преимущественно в приподнятом, даже ироническом ключе. Второй документальный опус — о богатом венском семействе Витгенштейнов — исполнен скорее в духе свинцово-готической саги, которая, по верному замечанию Александра Гениса, вполне могла бы называться «Падение дома...».
В своей первой биографической книге «Отцы и дети» Александр Во писал про папу Оберона и дедушку Ивлина — преимущественно в приподнятом, даже ироническом ключе. Второй документальный опус — о богатом венском семействе Витгенштейнов — исполнен скорее в духе свинцово-готической саги, которая, по верному замечанию Александра Гениса, вполне могла бы называться «Падение дома...».
Броская статистика кочует из обзора к обзору, но ее действительно трудно обойти: из пяти сыновей стального магната Карла Витгентштейна трое свели счеты с жизнью, из троих дочерей две вышли замуж, причем мужья обеих сошли с ума, а один тоже не поленился наложить на себя руки. Семью прославил младший Людвиг, перекроивший ландшафт философии XX века, хотя судьба еще одного выжившего брата — пианиста Пауля, который потерял на восточном фронте правую руку, но умудрился продолжить играть (и играть виртуозно), — вызывает не меньшую оторопь.
Как и полагается матерому оперному критику, Во знает толк в динамике сюжетных линий, не брезгует театральным нагнетением (если уж русские солдаты бегают, то непременно с «грубыми криками», если уж заключенный, то «закопанный заживо»), но и не упускает случая козырнуть выверенностью ссылок на источники. В целом, я бы не стал удивляться, если бы за экранизацию этой, спору нет, захватывающей и бойкой (возможно, даже слишком захватывающей и слишком бойкой) ЖЗЛ взялся какой-нибудь Netflix.
«Основной недостаток фрау Витгенштейн заключался в том, что она не могла, с одной стороны, защитить детей от гнева и раздражительности отца, а с другой — компенсировать их материнским теплом и заботой. Это была невысокая, длинноносая и круглолицая женщина, нервная и замкнутая, бесстрастная и верная долгу. Она страдала от постоянных приступов мигрени и флебита, болезни артерий, нервов и вен ног. „Мы просто не могли ее понять, — писала Гермина в мемуарах, предназначенных для узкого круга, — более того, она по-настоящему не понимала восьмерых странных детей, которых произвела на свет; при всей своей любви к человечеству она, казалось, вообще не понимала людей”. Гретль вспоминала: „Преданность моей матери долгу доставляла мне массу неудобств, ее вечную взбудораженность невозможно было терпеть. Она страдала от постоянного нервного напряжения”».
Джоэл Харрингтон. Праведный палач: жизнь, смерть, честь и позор в XVI веке. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. Перевод с английского Т. Ракова
 Во второй половине XVI века некто Франц Шмидт, житель Нюрнберга, принялся вести журнал, где как-то по-бухгалтерски холодно описывал свои профессиональные будни. А по роду деятельности Шмидт занимался тем, что рубил головы, сжигал заживо, душил, порол, увечил и всячески пытал сотни людей — и достиг за полвека на этом поприще немалых высот (361 осужденного ему довелось казнить собственноручно).
Во второй половине XVI века некто Франц Шмидт, житель Нюрнберга, принялся вести журнал, где как-то по-бухгалтерски холодно описывал свои профессиональные будни. А по роду деятельности Шмидт занимался тем, что рубил головы, сжигал заживо, душил, порол, увечил и всячески пытал сотни людей — и достиг за полвека на этом поприще немалых высот (361 осужденного ему довелось казнить собственноручно).
Сами по себе мемуары палача не являются чем-то исключительным, это известный жанр, в котором есть, как отмечает историк Харрингтон, свои бестселлеры. Однако текст Шмидта долгое время оставался маргинальным документом — возможно, предположил исследователь, в силу безличной отстраненности повествования. Заинтересовавшись этой странностью, Харрингтон откопал в архивах ранние и расширенные версии шмидтовских записей, куда более похожие на дневник, а также ряд документов, которые помогли увидеть фигуру палача совсем под другим углом.
Благодаря анализу текстов за бесконечным описанием казней проступил человек рефлексирующий, жертва властного произвола, добрый семьянин, измученный вопросами веры, долга и мечтающий обелить свое имя — в общем, пугающе понятный современному невротику персонаж. Но удача Харрингтона состоит в том, что ему удалось написать (на редком материале) не просто популярную биографию хорошего парня на ужасной работе, а портрет человека на рубеже эпох.
«У Генриха Шмидта и его сына была особая, более глубокая и стойкая неприязнь к опальному маркграфу, нежели у других жителей Хофа. Свое начало она берет 15 октября 1553 года, спустя четыре дня после того, как Альбрехт Алкивиад вернулся в опустошенный Хоф со своими слугами. Как и другие небольшие немецкие города, Хоф не мог позволить себе штатного палача. Но когда презираемый всеми Альбрехт арестовал троих местных оружейников за предполагаемое покушение на его жизнь, вместо того чтобы пригласить для совершения казни палача из других мест, что было обычной практикой, своенравный маркграф прибег к древнему обычаю и повелел случайному зрителю здесь же, на месте, привести приговор в исполнение. Этим человеком, на которого указал перст судьбы в лице Альбрехта, и оказался Генрих Шмидт. Будучи уважаемым гражданином Хофа, Шмидт яростно протестовал, взывая к своему правителю словами о том, что такой поступок означает позор для него и его потомков, но протесты были безрезультатны. „Если бы [мой отец] не подчинился, — вспоминает 70-летний Франц, — [маркграф] заколол бы вместо преступников его, а также еще двух мужчин, стоявших рядом с ним”.
Почему ни в чем не повинного человека выбрали для этой ужасной миссии? Ответ кроется в другой истории, которую Франц также хранил в тайне до глубокой старости, — истории о странном и неправдоподобном случае с участием собаки».
Миранда Олдхаус-Грин. Кельтские мифы. От короля Артура и Дейрдре до фейри и друидов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. Перевод с английского О. Чумичевой, научный редактор Н. Живлова
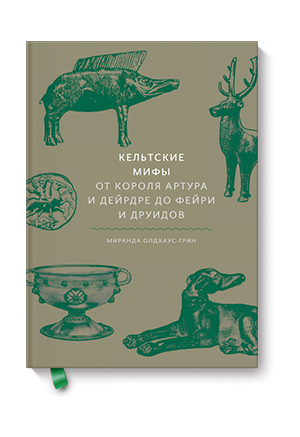 Профессор археологии Миранда Олдхаус-Грин приглашает совершить необременительное, без особых академических наворотов, но при этом информативное и увлекательное погружение в мир ирландских и валлийских мифов. Учитывая специализацию автора, не следует удивляться, что рассказ насыщен документально-вещественными подробностями (а также иллюстрациями) о культуре, быте и шаманских верованиях Железного века.
Профессор археологии Миранда Олдхаус-Грин приглашает совершить необременительное, без особых академических наворотов, но при этом информативное и увлекательное погружение в мир ирландских и валлийских мифов. Учитывая специализацию автора, не следует удивляться, что рассказ насыщен документально-вещественными подробностями (а также иллюстрациями) о культуре, быте и шаманских верованиях Железного века.
Для начала Олдхаус-Грин разбирается с функциями мифа, способами и акторами их передачи. Затем переходит к основным сюжетам и персонажам, погружаясь в пестрый водоворот кельтских духов, магических животных и пограничных существ, не обходя вниманием такие важные темы, как «чудовищное правление женщин», а также представления о небесном и подземном мирах. В заключение автор показывает, как на мифы повлияли христианские монахи, чьими стараниями многие из этих сюжетов до нас дошли.
В общем, идеальная читательская разминка для тех, кто по каким-то причинам пока чурается первоисточников и ищет повод, чтобы наконец самостоятельно взять за рога «Быка из Куальнге».
«История о неудачливом Конайре с самого начала создает впечатление обреченности, и слушатели знали это. Король погиб, потому что нарушил наложенный на него „птичий” гейс и, что немаловажно, сделал это на исходе года, на празднике Самайн, языческом ирландском эквиваленте Хэллоуина, в самом конце октября. Самайн считался особенно опасным временем, потому что находился на стыке между концом одного года и началом следующего, это было время небытия, когда мир переворачивался с ног на голову и духи бродили по земле среди живых людей. Описывая отвратительную гостью дома Да Дерга, сказитель „Разрушения...” прибегал ко всем известным ему способам создания самых странных фантазий, будто порожденных кошмарами. Гостьей оказалась богиня смерти в облике старухи с петлей на шее, в полосатом плаще. У нее были длинные черные ноги, борода длиной до колен и съехавший набок рот. Она произнесла пророческие слова, стоя на одной ноге. Старуха пришла в дом сразу после захода солнца. Описание насыщено символикой, которая наверняка была хорошо известна слушателям: все детали говорят о нестабильном и чудовищном потустороннем мире. Мужские и женские черты внешности, искривленное лицо, „ночные” черные конечности, поза на одной ноге, двуцветный плащ — все это полностью отвечало представлениям о существе, способном перемещаться между мирами. Она появилась на грани дня и ночи, в конце старого и начале нового года, что еще больше усиливало символику порога. Наслаивая такие признаки, сказитель передавал слушателям ощущение нарастающей угрозы, неестественного смешения мира людей и духов, настраивал на ожидание ужасного кульминационного момента. И слушатели наверняка не были разочарованы».
С более развернутым фрагментом книги можно ознакомиться на нашем сайте.
Гастон Доррен. Вавилон. Вокруг света за двадцать языков. М.: КоЛибри, 2020. Перевод с английского Н. Шаховой
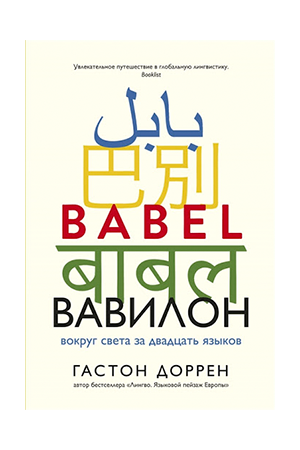 В своей первой книге голландский лингвист предпринимал увеселительную прогулку по языкам Европы, то теперь он отправился в кругосветку — на материале 20 самых распространенных на планете языков. При этом ухватки полиглота не поменялись: это по-прежнему ничуть не путешественник, который понятия не имеет, куда кривая дорожка выведет, а лакомка-турист, который хочет и умеет наслаждаться колоритными и экзотическими достопримечательностями — скажем, пугающе жесткими нормами уважительного языка «кромо» в яванском или корейскими идеофонами (звукоподражательными словами), которые своим многообразием бьют по тезису де Соссюра о произвольности означающего.
В своей первой книге голландский лингвист предпринимал увеселительную прогулку по языкам Европы, то теперь он отправился в кругосветку — на материале 20 самых распространенных на планете языков. При этом ухватки полиглота не поменялись: это по-прежнему ничуть не путешественник, который понятия не имеет, куда кривая дорожка выведет, а лакомка-турист, который хочет и умеет наслаждаться колоритными и экзотическими достопримечательностями — скажем, пугающе жесткими нормами уважительного языка «кромо» в яванском или корейскими идеофонами (звукоподражательными словами), которые своим многообразием бьют по тезису де Соссюра о произвольности означающего.
Неутомимо восторженная интонация Доррена может чуточку раздражать («ммм, в панджаби вся суть в тонах? Не может быть!»), но трудно не признать, что его книга — это легкий способ не только полюбить лингвистику, но и лишний раз подумать о невидимых прутьях языковой клетки, в которой мы сидим и неплохо себя чувствуем.
«Говоря по-явански с незнакомым человеком, следует использовать формальные слова: кромо, иногда мадьо. Но если вы разговариваете с кем-то или о ком-то, кто занимает более высокое социальное положение (например, с человеком старше вас по возрасту), правила вежливости требуют от вас использовать уважительные слова (высокие кромо) по отношению к этому лицу и — по контрасту — самоуничижительные слова (смиренные кромо) в отношении себя и других лиц более низкого ранга. (...) Свободное владение кромо традиционно было, а в некоторых регионах и остается культурным достоянием, которе придает говорящему определенный престиж. (...) Не умея свободно говорить на кромо, менее образованные яванцы боятся вымолвить слово в присутствии лиц с более высоким статусом. (...) Многие удивительные лингвистические феномены возникают спонтанно в ходе развития языка. Однако с кромо было иначе. Этот официальный регистр и обязательность его употребления отражают и укрепляют яванскую социальную иерархию, потому что именно такой была задумка его создателей, заинтересованных в сохранении этой иерархии и опиравшихся на внешнюю силу, желавшую сохранить статус-кво».
Юрий Домбровский. Смуглая леди: Повесть в новеллах. М.: Рутения, 2019
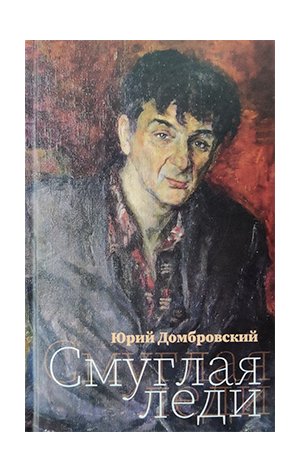 «Смуглая леди» оказалась в тени более известных произведений советского писателя-гуманиста, в первую очередь «Факультета ненужных вещей», который Шаламов называл лучшей книгой о 1937 годе. Эта затененность объясняется не только темой (Большой террор крепче держит читателя за жабры, чем рефлексии о Шекспире), но и трудной судьбой самого издания.
«Смуглая леди» оказалась в тени более известных произведений советского писателя-гуманиста, в первую очередь «Факультета ненужных вещей», который Шаламов называл лучшей книгой о 1937 годе. Эта затененность объясняется не только темой (Большой террор крепче держит читателя за жабры, чем рефлексии о Шекспире), но и трудной судьбой самого издания.
Первый вариант был создан еще в 1946 году в Алма-Ате, куда доходягу Домбровского, «призрака на костылях», сослали с Колымы умирать, дабы не портить лагерную статистику. Писатель не только выжил, но и с течением лет дополнил «Повесть» о любовных и творческих муках британского драматурга до трехчастной конструкции. Издать ее получилось лишь в 1969-м, и не без злоключений — вопреки мечтам автора, она вышла в свет в сокращенном виде.
Нынешнее издание реконструирует авторский замысел, не претендуя, впрочем, на абсолютную истинность читательской интерпретации. Достройка произведена с помощью фрагментов, которые сохранились в архиве Домбровского, а также на базе пристального чтения писем и единственной опубликованной версии повести. В книгу вошли чудесные иллюстрации графика Павла Бунина: они были готовы еще в конце 1960-х, но также публикуются впервые.
«— Так рассказывай, — нетерпеливо сказала она. — Ты рассчитался с театром, да?
Это „ты рассчитался” прозвучало так по-обидному легко и жестоко, что он внутренне вздрогнул.
— Значит, кое-что он все-таки успел тебе рассказать? — спросил он.
— Но я же сказала: он мне ничего не говорил, — суховато отрезала она, — так говори, я слушаю.
Он смотрел на нее настороженно и неуверенно, потому что совсем не этого ждал от их встречи и никак не понимал ее тона.
— Ну так что ж рассказывать? — пожал он плечами. — Рассчитался, вынул свою долю и вот еду домой.
— Домой? — спросила она протяжно, что-то очень многое вкладывая в это слово, но сейчас же и осеклась. — Ладно, о доме потом, но почему ты ушел? Он открыл было рот. — Ты болен? Давно?
„Рассказал о припадке, скотина”, — быстро подумал Шекспир и ответил, принимая вызов Волка, в лоб:
— Так болезнь-то, собственно говоря, одна — мои пятьдесят лет. Для театра я стар — вот и все.
— А те моложе? — спросила она спокойно.
— Те делают сборы, — резко сказал Шекспир, а я не делаю сборов, значит, я выдохся и стар. Что бы я ни написал, все теперь не имеет успеха. Ну кому теперь нужна „Буря” или „Зимняя сказка”? — Он улыбнулся и развел руками. Никому! Только мне.
Так же резко и спокойно она спросила:
— А „Гамлета” ты больше не напишешь?
— А „Гамлета” я, пожалуй, больше не напишу, ответил он задумчиво и просто, — нет, определенно даже не напишу. Да он и не нужен. И потом я просто устал. Джен, ну может человек устать?
Она ничего не ответила, он хотел сказать что-то еще, но вдруг, наколовшись на ее взгляд, резко махнул рукой и замолчал».