Все люди немного мошенники
Новые зарубежные книги: апрель
Давид Гроссман. Как-то лошадь входит в бар. М.: Эксмо, 2019. Перевод с иврита Виктора Радуцкого
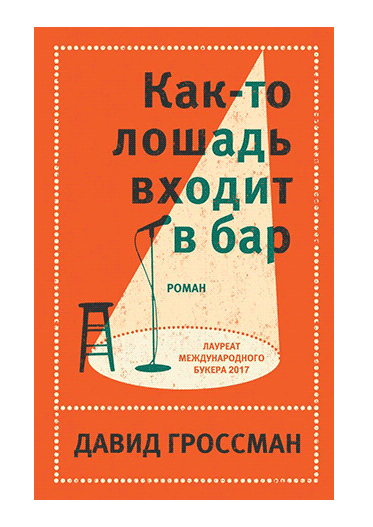 Израильский писатель Давид Гроссман чуть больше известен русскому читателю как детский автор, чем как взрослый, а именно романом «С кем бы побегать» — умной и сочувственной книгой о реальных проблемах подростков в современном Иерусалиме. Настолько реальных, что роман даже чуточку пытались запретить в России. Его взрослые книги (самая заметная из которых — роман «См. статью „Любовь”») посвящены теме Холокоста и исчезнувшего европейского еврейства, которую Гроссман исследует с некоторой даже одержимостью. Он вообще довольно яростный: известен, в частности, своей непримиримой левизной и призывами к бойкоту поселений, борьбой против оккупации Западного берега Иордана. Все это вкупе с международной Букеровской премией 2017 года и премией мира от немецких книготорговцев в 2010-м делает Гроссмана одной из самых значительных фигур современной израильской литературы. Настолько значительной, что на русский его роман 2014 года перевел сам Виктор Радуцкий — переводчик, переложивший на русский всего Амоса Оза, настолько точный и внимательный к словам, что в комментариях иногда объясняет библейские смыслы оригинала: на фоне общего состояния отечественного перевода над этими комментариями тянет всплакнуть от редкого читательского счастья.
Израильский писатель Давид Гроссман чуть больше известен русскому читателю как детский автор, чем как взрослый, а именно романом «С кем бы побегать» — умной и сочувственной книгой о реальных проблемах подростков в современном Иерусалиме. Настолько реальных, что роман даже чуточку пытались запретить в России. Его взрослые книги (самая заметная из которых — роман «См. статью „Любовь”») посвящены теме Холокоста и исчезнувшего европейского еврейства, которую Гроссман исследует с некоторой даже одержимостью. Он вообще довольно яростный: известен, в частности, своей непримиримой левизной и призывами к бойкоту поселений, борьбой против оккупации Западного берега Иордана. Все это вкупе с международной Букеровской премией 2017 года и премией мира от немецких книготорговцев в 2010-м делает Гроссмана одной из самых значительных фигур современной израильской литературы. Настолько значительной, что на русский его роман 2014 года перевел сам Виктор Радуцкий — переводчик, переложивший на русский всего Амоса Оза, настолько точный и внимательный к словам, что в комментариях иногда объясняет библейские смыслы оригинала: на фоне общего состояния отечественного перевода над этими комментариями тянет всплакнуть от редкого читательского счастья.
Роман «Как-то лошадь входит в бар» при этом совсем не легок для перевода. Если кратко, то это несмешной роман о стендапере — точнее, об одном совсем не смешном стендапе. Его герой, пятидесятисемилетний Довале, не первый год ломает комедию на сцене. Но на этот раз специально приглашает на свое выступление зрителя — отставного судью, своего потерянного друга детства. Судья (он здесь рассказчик) не слишком жалует комедийный жанр: ведь все важное — болезни, войны, смерти — превращается в нем «в шутку, в пародию, в карикатуру». И поначалу собирается уйти, не найдя в своем старом друге «ни милости, ни молодости». Но остается, увидев, как комедия на его глазах становится чем-то совершенно другим — откровением о детстве рассказчика, о его самой глубокой травме. Довале оскорбляет себя и зрителей, колотит себя по лицу и, перемежая речь анекдотами, рассказывает, как в детстве ходил на руках, чтобы его на улицах не били («кто найдет меня, когда я вверх ногами, кто может меня поймать?»), и как комедийная карьера началась для него, когда с подростковых армейских сборов его везли на похороны, не сообщив, кто из его близких умер, и водитель всю дорогу рассказывал мальчику анекдоты, чтобы отвлечь его от горя. Зрители с такого представления уходят пачками — человек на сцене торжественно считает ушедших красным мелом на доске.
Необязательно дочитывать роман Гроссмана до конца — то есть до послесловия, где он и сам в этом признается, — чтобы понять, что он не очень-то представляет себе стендап. Почему-то он уверен, что стендап — это когда человек на сцене желает излить душу, а публика в зале желает слушать анекдоты. В его зале зрители нервничают, когда Довале принимается шутить про Холокост, — но настоящий стендап ровно для того и нужен, чтобы про Холокост шутить. Перформанс его героя натурально сводится к рассказыванию анекдотов, причем не самого свежего армейского качества. Прямо неудивительно, что несчастному Довале рассказывать анекдоты не хочется, а хочется делиться собственной, по выражению автора, «подлинной» историей.
 -
-
Только жаль, что Гроссман не видит, что собственно стендап в его сегодняшнем виде именно таков: он дает возможность временно стать подлинным, выстраивая при этом доверительные отношения с аудиторией, через смех в том числе. Его Довале на самом деле не исключение из правил, а вполне современный стендапер. Который вполне может посвятить целый час боли и смерти — как Лори Килмартин, автор перформанса о смерти своего отца «45 шуток о моем папе»: «Папа умер, делая то, что умел лучше всего: выращивая опухоли». Или Паттон Освальт, оплакивающий в комедийном выступлении смерть жены. В шоу «Dark» шотландец Дэниел Слосс рассказывал, как буквально стал комиком на поминках собственной сестры: его так раздражали кислые мины собравшихся, что он принялся развлекать их шутками. А это уже буквальное повторение гроссмановского сюжета. Написанное, кстати, одновременно с ним (премьера на подмостках в 2015-м, телевизионная — 2018-й). И нельзя не вспомнить Бо Бёрнема, короля неловких шуток, и его шоу «Make Happy» о депрессии и сложных отношениях со зрителем. Позже Бёрнем признается, что его часто охватывали панические атаки прямо на сцене, но вот зрителей его подход ни капли не смущал — у его песен десятки миллионов просмотров на Youtube, а само шоу в 2016 году возглавило все рейтинги комедийных перформансов. В общем, то, что Гроссман полагает выходом из мейнстрима, на самом деле и есть сегодняшний мейнстрим.
Роман это никак не портит, потому что он в конечном счете не о стендапе. Он о человеке, который пытается — возможно, последний раз в своей жизни — честно рассказать, кто он такой и из чего он сделан. И это усилие, предельно откровенное, не может не вызвать неловкости — а еще катарсиса, слез, каких-то собственных откровений. В финале откровения от Довале рыдает весь зал — те немногие, кто от него остались. И тут именно возможность говорить напрямую, даже делая зрителю неудобно, становится для романа ключевой: он действительно весь, как его герой, неловкий, прямолинейный и откровенный — настолько, насколько может быть условно взрослая книжка. Надо сказать, что Гроссмана в русских переводах часто ругали именно за это неудобство: его герои, словно одержимые некоей болезнью, никогда не прекращают многословно, вслух страдать. Здесь же неловкость этих страданий постоянно сглаживается попыткой удержать зрительское — и читательское — внимание, и именно это помогает нам прожить их до конца.
Лили Кинг. Эйфория. М.: Фантом Пресс, 2019. Перевод с английского Марии Александровой
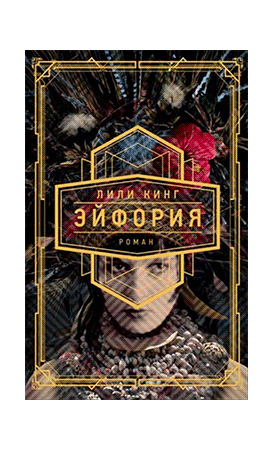 Совершенно неизвестная нам Лили Кинг в своей Америке, напротив, весьма успешна, и все ее романы, числом четыре, получили свой букет литературного признания: премии, места в списках бестселлеров Amazon и New York Times, похвалу критики и признание читателей. «Эйфории», ее четвертой книге, вышедшей в 2014 году, досталось больше всего: она и в бестселлеры попала, и в десятки главных книг года от Time и New York Times, ну и там еще с двадцатку всяких премий, которых в Америке много.
Совершенно неизвестная нам Лили Кинг в своей Америке, напротив, весьма успешна, и все ее романы, числом четыре, получили свой букет литературного признания: премии, места в списках бестселлеров Amazon и New York Times, похвалу критики и признание читателей. «Эйфории», ее четвертой книге, вышедшей в 2014 году, досталось больше всего: она и в бестселлеры попала, и в десятки главных книг года от Time и New York Times, ну и там еще с двадцатку всяких премий, которых в Америке много.
Причина такого успеха — как и того, что роман Лили Кинг наверняка поразит и русского читателя — в почти идеальном сочетании актуальных вопросов эпохи и захватывающего сюжета. В истории любовного треугольника антропологов в диких племенах Новой Гвинеи в 30-х годах прошедшего века Лили Кинг видит способ поговорить и о женщинах, и о толерантности, и об ответственности Запада перед третьим миром, и о насилии, причем всех видов: как буквальном — мужчин над женщинами, так и культурном — первого мира над третьим. Недаром в самом же начале романа нам сообщается, что исследования антропологов, весьма благородных помыслами, будут потом использованы нацистами, а одно из мирных племен через шесть лет, в 1942-м, полностью вырежут японцы в наказание за то, что те укрывали американского солдата. Ну и о травме, конечно же, поговорят тоже: каждый из героев романа носит в себе незаживающую рану, и раны эти удивительным образом не перестают кровоточить на протяжении недолгого, но насыщенного романа.
1930-е годы; время действия книги — золотой век для антропологии, когда она, по выражению одного из героев, перешла от изучения мертвых к изучению живых и перестала считать, что идеалом для всех обществ является западная модель мира. Именно в это время в романе Кинг в Папуа отправляются три антрополога, которые, каждый по-своему, пытаются открыть новую науку. Один (он же тут рассказчик), англичанин Эндрю Бэнксон, сам не совсем понимает, что здесь делает; второй, американец Фен, мечтает о громадном открытии; третья, жена американца, Нелл, единственная занимается наукой, работая с женщинами и детьми. У Нелл есть реальный прототип — антрополог Маргарет Мид, автор основополагающих работ о взрослении, сексуальности и инициации в традиционных обществах, первый исследователь этнографии детства. Но «Эйфория» ни в коем случае не биография Мид: у той жизнь была намного интереснее, разнообразнее и, что уж скрывать, дольше. От Мид здесь — любопытство к сексуальности, к тому, чтобы понять роль женщины в культуре через устройство традиционного общества. «Слова, которые я всегда учу в первый же день, — это мать, отец, сын, дочь и вагина, — строго говорит Нелл. — Это единственный способ быть уверенной в информации».
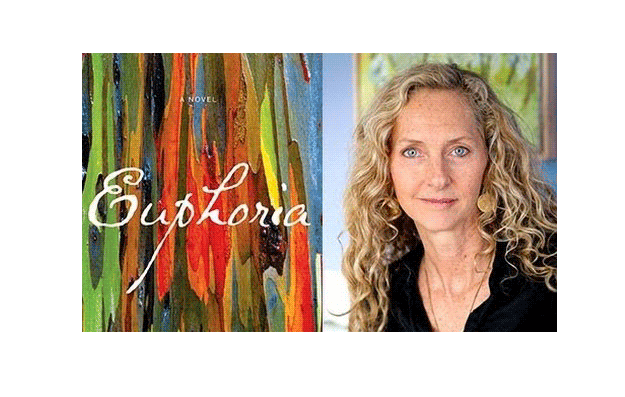 Сложно не сравнить роман Лили Кинг с романом Ханьи Янагихары «Люди среди деревьев», где одним из главных героев был антрополог, который все испортил. Разве что традиционный мир не представляется Кинг идиллией, а цивилизацию она не считает злом. Ей важно именно показать трещины от столкновения между ними, как и трещины от столкновения героев, моментально сложившихся в любовный треугольник. Единственный общий изъян этих романов — в головы героев прошлого столетия вкладываются вполне современные мысли: они говорят тут о толерантности, о разнице культур и не испытывают ни белой вины, ни белого превосходства. Разговор о прошлом никогда не становится разговором о прошлых идеях. К счастью, чтобы замаскировать это, у автора есть другие истории. Опять же, про любовь.
Сложно не сравнить роман Лили Кинг с романом Ханьи Янагихары «Люди среди деревьев», где одним из главных героев был антрополог, который все испортил. Разве что традиционный мир не представляется Кинг идиллией, а цивилизацию она не считает злом. Ей важно именно показать трещины от столкновения между ними, как и трещины от столкновения героев, моментально сложившихся в любовный треугольник. Единственный общий изъян этих романов — в головы героев прошлого столетия вкладываются вполне современные мысли: они говорят тут о толерантности, о разнице культур и не испытывают ни белой вины, ни белого превосходства. Разговор о прошлом никогда не становится разговором о прошлых идеях. К счастью, чтобы замаскировать это, у автора есть другие истории. Опять же, про любовь.
Энрико Реммерт. Баллада о мошенниках. СПб.: Лимбус Пресс, 2019. Перевод с итальянского Ирины Константиновой
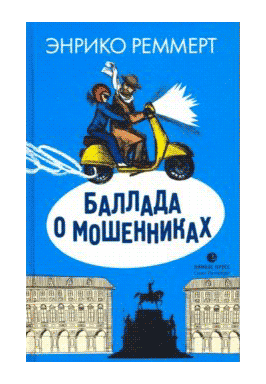 События этого небольшого романа предваряются предисловием от редакции: рассказом о Ричарде Грассо, главе Нью-Йоркской фондовой биржи, который в 2003 году выписал самому себе премий на 140 миллионов долларов. Мол, не зря главного мошенника романа Энрико Реммерта зовут почти так же, Франко Грассо, но сам он предпочитает прозвище Гриссино — в честь длинных и тонких хлебных палочек. На самом деле «Баллада о мошенниках» написана за год до скандала с Грассо и привела абсолютно неизвестного у нас Реммерта в финал двух больших литературных премий — Дублинской и премии газеты «Индепендент». В общем, идея, что все люди немного мошенники, всему миру оказалась дорога и близка, тем более если мошенники эти обаятельные.
События этого небольшого романа предваряются предисловием от редакции: рассказом о Ричарде Грассо, главе Нью-Йоркской фондовой биржи, который в 2003 году выписал самому себе премий на 140 миллионов долларов. Мол, не зря главного мошенника романа Энрико Реммерта зовут почти так же, Франко Грассо, но сам он предпочитает прозвище Гриссино — в честь длинных и тонких хлебных палочек. На самом деле «Баллада о мошенниках» написана за год до скандала с Грассо и привела абсолютно неизвестного у нас Реммерта в финал двух больших литературных премий — Дублинской и премии газеты «Индепендент». В общем, идея, что все люди немного мошенники, всему миру оказалась дорога и близка, тем более если мошенники эти обаятельные.
Это весьма камерный роман, столь же предсказуемый, сколь и поучительный. В центре его — два молодых лоботряса: рассказчик Витторио и его лучший друг Мило. Лоботрясы промышляют мелким хулиганством: играми со страховкой, продажей фальшивых наркотиков таким же лоботрясам. Мило и Витторио придумали большую аферу — запустить фирму дешевой курьерской доставки, настричь купонов, продать их подороже и смыться с деньгами. Но для аферы нужен стартовый капитал, а добыть его поможет дядя одного из героев — самый главный мошенник, похожий на располневшего Иисуса Христа, с манерами, как выражаются герои, аристократическими.
Витторио влюблен в подружку своего лучшего друга, Кристину, не терпит пафосной трескотни и испытывает постоянное потрясение от информации, в которой не нуждается: где-то в мире кого-то забили камнями за прелюбодейство или придумали специальную диету, улучшающую вкус вагины для любителей куннилингуса; где-то десятилетние дети работают на фабриках за два доллара в месяц, а где-то американские дамы летают в Милан только ради новенькой сумочки Фенди. И без этих познавательных вставок читатель понимает, к чему его клонят: наш мир устроен настолько черт знает как, что единственным способом общения с ним является розыгрыш. Ну и конечно, в этом розыгрыше почти невозможно оказаться победителем. «Два великих закона властвуют в этом мире, господа! — вещает похожий на располневшего Иисуса дядюшка Гриссино. — Первый: все обманывают. Второй: все этого заслуживают».
Бывают, в общем, такие обаятельные книги, когда вроде понятно, к чему ведет автор, но читателю доставляет удовольствие просто следить за системой доказательств. «Баллада о мошенниках» — одна из них: от того, что нам примерно с первой страницы понятно, чем все это закончится, хуже она никак не становится. Наоборот, ведь все врут, не так ли, но, поскольку мы, читатели, самые умные и все про всех поняли, нам остается с превеликим удовольствием следить за руками — чтобы в финале поразиться тому, что бумажка все-таки оказалась не в том стаканчике.