«Ведь наше правительство — не правительство Гитлера»
Всеволод Емелин о книге воспоминаний крестьянина Ивана Юрова
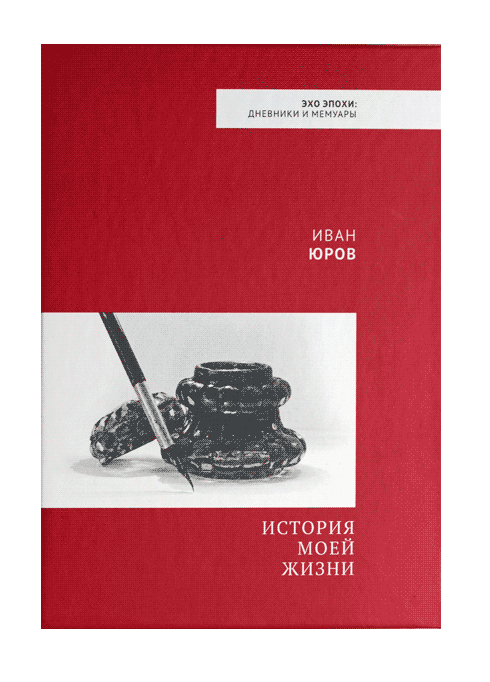 «Младенчества своего я, конечно, не помню, поэтому о нем будет кой-где упомянуто со слов матери. Она рассказывала мне, что родила меня в хлеву». Так начинается книга воспоминаний Ивана Юрова «История моей жизни». Сразу просится банальное продолжение — «как Иисуса Христа». Но автор — вологодский крестьянин Иван Юров — человек отнюдь не банальный. И поэтому уже третья фраза неожиданно опрокидывает читателя в мир Даниила Хармса: «Родился я с большой распавшейся начетверо головой, и мать долго боялась, что череп не срастется». Что это значит, остается только гадать. Но череп, видимо, сросся, и его владелец оставил нам увлекательнейший документ великого безумного времени, увиденного глазами наблюдательного и талантливого человека, который сам был одновременно и порождением, и создателем той эпохи.
«Младенчества своего я, конечно, не помню, поэтому о нем будет кой-где упомянуто со слов матери. Она рассказывала мне, что родила меня в хлеву». Так начинается книга воспоминаний Ивана Юрова «История моей жизни». Сразу просится банальное продолжение — «как Иисуса Христа». Но автор — вологодский крестьянин Иван Юров — человек отнюдь не банальный. И поэтому уже третья фраза неожиданно опрокидывает читателя в мир Даниила Хармса: «Родился я с большой распавшейся начетверо головой, и мать долго боялась, что череп не срастется». Что это значит, остается только гадать. Но череп, видимо, сросся, и его владелец оставил нам увлекательнейший документ великого безумного времени, увиденного глазами наблюдательного и талантливого человека, который сам был одновременно и порождением, и создателем той эпохи.
Эпоха — с 1890-х до 1935 года, а свидетель ее — человек с крайне активной жизненной позицией, литературоцентричный мужик, софист и демагог в высоком античном понимании этих слов. Обладатель обостренного чувства справедливости и довольно склочного характера. Идеалист и утопист. Моралист и двоеженец. Странник и просветитель. Часто трудно понять, чем больше увлекает книга: невероятностью описываемых событий или обаянием автора. Сам автор писал не для печати, просто он был не в силах сдержать свой литературный дар.
После евангельского зачина «История моей жизни» продолжается в форме житийной литературы, где будущий святой в детстве поражает окружающих мудростью и успехами в науках. Иван Юров был первым в церковно-приходской школе. После школы, найдя дома агиографические книжки, погрузился в их чтение. Поэтому, кстати, не забыл грамоту, как большинство его одноклассников по ЦПШ. Все прочитанное воспринимал как руководство к действию. Делился полученной информацией, проповедовал, вызывая язвительные насмешки одних и невольное уважение других. Постился, тайно творил благие дела, пытался сбежать в монастырь… Его детство пришлось на конец XIX века, нищая деревня Вологодской губернии, изнурительный труд, недоедание, буйство самодура-отца… Затем по законам диалектики житие праведника превращается в житие грешника. Даже не грешника, а сознательного богоборца. В 17 лет, а это 1904 год, Юров вырывается в город на заработки. Начинает читать газеты. Наконец, становится санитаром в военно-морском госпитале в Петербурге среди инвалидов Японской войны. «Работа и жизнь в госпитале, среди этих безруких и безногих „героев”, открыла мне глаза. Я узнал от них правду о боге и царе. Царя они величали не батюшкой, а кровопийцем, министров и генералов честили ворами. Были у них привезенные из Японии запрещенные книги (там среди них работали революционеры). Я читал их запоем и окончательно укрепился во мнении, что бога нет, а для того, чтобы улучшить жизнь для трудящихся, надо свергнуть царское правительство».
Предупреждали же умнейшие из сановников типа Победоносцева, что опаснее врага, чем мужик, обучившийся грамоте, у империи нет. Прирожденный «агитатор, горлан, главарь» Юров бросается в революцию. Причем не в Питере или Москве, а в родной глухой деревне. Непрерывное самообразование, правдоискательство, глубочайшее уважение к печатному слову, ораторский талант, организаторские способности делают его одним из лидеров крестьянского протеста.
«В числе других я в это время прочитал такие книги, как „Овод”, „Спартак”, „Под игом”. Помню, с увлечением прочитал популярную книжку по астрономии „Дедушка Время” — кажется, Рубакина, — она очень укрепила мой атеизм. Еще большую роль в этом отношении для меня сыграла небольшая книжка Бебеля „Христианство и социализм”. Когда я прочитал в ней сначала письмо к Бебелю католического священника Гогофа, то подумал, что же Бебель сможет возразить? Но, прочитав ответ Бебеля, я просто пришел в восторг. Его аргументы я постарался покрепче усвоить и с еще большей горячностью повел беседы о том, что бога нет».
Надо сказать, что, ненавидя, как многие, свое детство, к религии Юров питал особое отвращение. Диспуты со священнослужителями, сбор подписей за закрытие храмов и после революции оставались его любимыми занятиями. Он буквально терроризировал безответных сельских попов. И уже тогда он столкнулся с главным, неразрешимым противоречием всей своей жизни. Противоречием между книжной и эмпирической реальностью. «Между тем в нелегальной литературе упор делался главным образом на 8-часовой рабочий день для рабочих и помещичью землю для крестьян. Я перед своими слушателями об этом много распространяться не мог. 8-часовой день к нам не относится…
Помещиков у нас нет, поэтому земли нам ниоткуда не может быть прибавлено. Да и нельзя сказать, чтобы мы в ней нуждались: как землеробы мы и так были задавлены работой…
И все же я верил, что революция, несомненно, принесет улучшение нашей доли, и поэтому при каждом удобном случае горячо ратовал за нее».
Этот когнитивный диссонанс будет преследовать Юрова постоянно. Например, в германском плену, куда он попал во время «великого отступления», не сделав за войну ни одного выстрела, его ожидало разочарование в немецких соратниках. «Проверяя их начитанность, я спрашивал их о Карле Марксе, Фридрихе Энгельсе, Вильгельме Либкнехте, Бебеле и других известнейших социалистах, в основном их соотечественниках, но эти „социал-демократы”, оказывается, о них и не слыхали, они знали только своего Шейдемана» [немецкий социал-демократ, провозгласивший Германию республикой 9 ноября 1918 года в результате Ноябрьской революции, первый премьер-министр Веймарской республики — прим. ред.].
 Иван Юров с сыном и женой Евдокией, 1958 год Фото: godliteratury.ru/projects/kniga-k-100-letb-revolyucii 2/2
Иван Юров с сыном и женой Евдокией, 1958 год Фото: godliteratury.ru/projects/kniga-k-100-letb-revolyucii 2/2  Учительская конференция Нюксенского района, село Богоявление. Иван Юров – в первом ряду справа Фото: godliteratury.ru/projects/kniga-k-100-letb-revolyucii
Учительская конференция Нюксенского района, село Богоявление. Иван Юров – в первом ряду справа Фото: godliteratury.ru/projects/kniga-k-100-letb-revolyucii Казалось бы, после революции Юрову были открыты все пути. И он действительно бросается в лихорадочную жизнь тогдашней деревни — кем он только не был. Избачом (зав. избой-читальней), завом РайЗО (РайЗемОтделом), председателем волисполкома, начальником строительства льнозавода, ходоком, подыскивающим в Сибири место для коммуны, заведующим совхоза… Человек незаурядных способностей, он стремительно осваивал любое дело. От портновского мастерства, которое подкармливало его всю жизнь (привет Эдуарду Лимонову) до проектирования зданий. Но каждый раз, как только его положение становилось более-менее стабильным, Юров с каким-то мрачным восторгом разрушал его до основания. Максимализм и перфекционизм вели его от катастрофы к катастрофе. Презрение к быту, завышенные требования к окружающим и толстовская уверенность, что только ручной труд на земле достоин уважения, не давали ему укорениться в строительстве нового мира. Юров беспощадно обличал начальство и коллег за перерождение, комчванство, стяжательство, обличал коммунистов за моральное разложение, а двадцатипятитысячников [рабочие, занимавшиеся организационной работой в колхозах — прим. ред.] — за полную некомпетентность в сельском хозяйстве (привет шолоховскому любушке Давыдову). Боролся с коррупцией не хуже Навального. Кстати, сама тогдашняя коррупция была даже какой-то трогательной. Руководитель присваивал, например, общественную еду и тут же съедал ее сам. Силовик конфисковывал самогон и немедленно выпивал его. Тогда многие жили одним днем, а то и часом. Вокруг сажали и ссылали противников коллективизации. Потом, после статьи Сталина «Головокружение от успехов», стали сажать коллективизаторов, потом опять противников… Юров писал доносы, и на него писали. Будучи председателем волисполкома занимался распределением продразверстки по деревням и сам прятал зерно от продотрядов. Имел одну мечту — создать аграрную коммуну из друзей и единомышленников и жить в ней дружной семьей. И создал. История настолько ослепительная, что невозможно ее не пересказать. Назвали стильно — «Прожектор». Из всех форм обобществления собственности выбрали, естественно, самую крайнюю. Обобществили все вплоть до тулупов. «…Переехав в общий дом, мы должны размещаться не семьями, а в таком порядке: дети до трех лет — в постоянно действующих яслях, от трех до семи-восьми лет — в детском саде, школьники и вообще молодежь — в общежитиях по возрасту и полу, старички и старушки, если они вдовые, также в общежитиях. И только супружеские пары должны получить отдельные комнаты». И чем же закончилось это пиршество коллективизма? А вот чем. Жене районного агронома доверили заведовать яслями. Она пренебрегала работой. Дети завшивели. Когда Юров взялся ее воспитывать, выяснилось, что, кроме районного агронома, дама сожительствует и с участковым агрономом и с двадцатипятитысячником. Все трое пригрозили выйти из коммуны. «Передо мной встала дилемма: или получить обвинение в спецеедстве, то есть в том, что я выжил из коммуны специалистов, да, хуже того, еще и двадцатипятитысячника. За это мне, конечно, было бы несдобровать… С той поры коммуна была для меня потеряна. Да и вообще я потерял свою точку в жизни». Таких невероятных сюжетов в «Истории моей жизни» множество, она читается на одном дыхании. Читатель, не имеющий специального образования, узнает из нее массу нового. Например, что и после отмены крепостного права, крестьянин не мог уйти из деревни без согласия «обчества», что в 1930-е годы в паспорте ставились штампы о приеме на работу и увольнении, что в середине 1920-х по дорогам северной России ходить было безопасно, а в Сибири — смертельно опасно… Вообще очень полезно погрузиться в мир, где рождаются в хлеву, кроют крыши дерном, путешествуют за сотни верст пешком и месяцами питаются одним черным хлебом не досыта. Глубокая благодарность за книгу «Издательскому дому Рыбинскъ», сопроводившему издание подробными комментариями, сыну автора, сохранившему его записки, и самому Ивану Юрову — удивительному человеку, завещавшему своему сыну в 1935 году рукопись, которая заканчивалась словами:
«А потом стали доходить с Украины сведения, что там много людей погибло от голода. Я думал: неужели это было сделано преднамеренно, чтобы предупредить „Вандею”? А если не так, то неужели нельзя было оказать населению своевременную помощь, чтобы спасти его от гибели? Ведь не может же быть, чтобы наше правительство считало всех крестьян Украины и Северного Кавказа врагами социалистического государства и поэтому не подало им руку помощи. Ведь наше правительство — не правительство Гитлера, с нашим правительством нога об ногу идет такой великий человек, как Максим Горький.
На стороне нашего правительства лучшие, величайшие мыслители мира — Ромен Ролан, Бернард Шоу и другие. А когда такие гиганты мысли считают единственно правильным путь, избранный советской властью, то я слишком ничтожен, чтобы считать, что я могу иметь другое, более правильное мнение».