В сторону ужаса: проза Анны Старобинец
Эдуард Лукоянов — о сборнике «Резкое похолодание» и не только
Анна Старобинец. Резкое похолодание. Зимняя книга. М.: АСТ, 2020
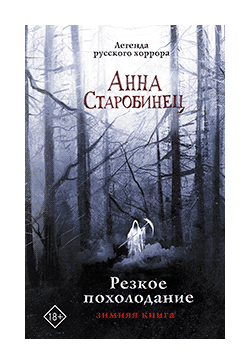 Эта книга — переиздание сборника 2008 года, в который вошли две повести («Домосед», «Резкое похолодание») и три рассказа («Неуклюжи», «Прямо и налево», «В пекле»). Когда эти тексты только появились, отечественные критики, изголодавшиеся по качественной жанровой литературе на русском языке, поспешили выдать Анне Старобинец авансом хвалебные ярлыки «русский Стивен Кинг» и «королева русского хоррора». Как это часто бывает, интронизация совсем юной тогда писательницы прошла спешно, без внимательного прочтения ее текстов, отсюда и такая размытость панегириков на ярлыках, намертво к ней приклеенных.
Эта книга — переиздание сборника 2008 года, в который вошли две повести («Домосед», «Резкое похолодание») и три рассказа («Неуклюжи», «Прямо и налево», «В пекле»). Когда эти тексты только появились, отечественные критики, изголодавшиеся по качественной жанровой литературе на русском языке, поспешили выдать Анне Старобинец авансом хвалебные ярлыки «русский Стивен Кинг» и «королева русского хоррора». Как это часто бывает, интронизация совсем юной тогда писательницы прошла спешно, без внимательного прочтения ее текстов, отсюда и такая размытость панегириков на ярлыках, намертво к ней приклеенных.
Такую прозу любят записывать в «магический реализм», игнорируя тот факт, что магический реализм — течение со своими законами и географическими рамками, не принимающее в свои ряды легионеров. Чтобы говорить о прозе Анны Старобинец, мы будем употреблять (за неимением лучшего) определение «литература ужаса», которую, как нам кажется, следует отличать от хоррора. И, говоря об отдельно взятом сборнике русской писательницы, мы бы хотели поговорить вообще о литературе ужаса, которую противопоставляем хоррору. Думая об этих различиях, мы выделили семь простых тезисов, которые сейчас по возможности раскроем.
1.
Хоррор обращается к страху смерти, литература ужаса — к тому, что ей предшествует. Одиночество, муки совести, осознание своей ненужности — все, чему многие в конечном итоге предпочитают смерть, — это основа, на которой выстраивается ужас в текстах Старобинец. Особенно явно это очерчено в «Домоседе» и «Прямо и налево», где смерть как конечная точка существования прямо отрицается, а ужас вызывают непосредственные аффекты и рефлексии персонажей.
В «Домоседе» это ужас одиночества, который затем сублимируется в стремление остаться одному. Повествование ведется от лица домового, живущего в квартире на Спиридоновке, в самом центре Москвы. Хозяин квартиры умирает, его правнучка, кое-как ухаживавшая стариком в ожидании его смерти, тоже переезжает, а доставшуюся в наследство жилплощадь решает сдавать в аренду. В мире, описанном Старобинец, невидимки-домовые принимают облик людей, с которыми живут. Если домовой остается без хозяина, он, как говорила рассказчику бабушка, наконец обретает собственное лицо. Если же у домового больше постояльцев, чем обычно, с ним происходят такие метаморфозы:
«Казалось, что некий всемогущий маньяк-расчленитель собрал его из подручных деталей — неодинаковой величины огрызков, шматков и кусочков расчлененных жертв, а потом каким-то чудом вдохнул в созданное им существо жизнь. Иссеченная морщинами бледная старческая кожа перемежалась на его лице лоскутами по-детски розовыми и мягкими, а также смуглыми, поросшими жесткой черной щетиной, и игриво-веснушчатыми. Капризно изогнутые ниточки дамских бровей соединялись мохнатой кустистой порослью на переносице. Глаза были разные. Один — блестящий, темно-карий — маленьким злым буравчиком ввинтился куда-то в щеку. Другой — большой, задумчивый, мутно-серый — расположился на лбу. Рот сильно кривился влево, губы тоже были разными, на нос я вообще старался не смотреть...»
Так рассказчик «Домоседа» описывает своего собрата — циничного обитателя сквота, становящегося для него кем-то вроде гуру селф-хелпа: учит не зависеть от людей и свободно перемещаться по городу. Однако, как нетрудно догадаться, попытка избавления от ужаса одиночества заканчивается для героя фатально — на смену ему приходит ужас утраты подлинного себя, практически в традициях Сигизмунда Кржижановского буквализованный в утрате предметов, охраняемых домовым.
2.
Литература ужаса работает с мифом, хоррор — с медиа. Серийные убийцы, всевозможные перверсии, криптозоологические экзерсисы, НЛО — все это архетипы новейшего времени, выпестованные медиа. В идеале хоррор стремится к тому, чтобы читатель, включив телевизор или развернув газету, столкнулся с тем же ужасом, про который только что прочитал в книге. Лишь очень немногие из нас погибнут от рук серийного убийцы. В этом смысле какой-нибудь Эд Гейн чуть более реален, чем леший или кикимора. Однако ложную реальность таким преступникам-монстрам придают медиа: документальных и художественных фильмов о том же Гейне снято в разы больше, чем он убил людей.
Медиа действуют по лекалам хоррора, а хоррор, в свою очередь, действует по лекалам медиа, причем постоянно превращая это свое свойство в повод для саморефлексии. У того же Стивена Кинга непременным атрибутом авторского текста становятся всевозможные газетные вырезки, навязчивое обращение к поп-культуре, передаваемой по радио и телевидению, многочисленные цитаты и отсылки к масскульту, тоже принадлежащему не столько к искусству, сколько к медиа.
 Анна Старобинец
Анна Старобинец
Для большей наглядности позволим себе привести пример из кино, а именно — из постмодернистского слэшера Тоуба Хупера «Техасская резня бензопилой 2», сиквела, тщательно и крайне остроумно демонтирующего культовый оригинал от того же режиссера. Главная героиня этого фильма, типичная final girl в исполнении Кэролин Уильямс, работает ди-джеем на захолустной радиостанции. В прямом эфире совершается убийство, которое попадает на пленку. Последующее воспроизведение этой записи по радио наводит семью маньяков на новую жертву, которой и становится радиоведущая. Медиа оказывается не только средством передачи информации, но и триггером ужаса, которого можно было бы избежать, если бы не законы, по которым существуют СМИ. Ужас от угрозы стать жертвой серийного убийцы быстро рассеивается, если он не проговаривается вновь и вновь, становясь поводом для моральной паники.
В противовес этому литература ужасов берет за основу архетипы, не нуждающиеся в постоянном воспроизведении, архетипы мифологические, обитающие в самом культурном коде нашего общества. В «Домоседе» Анны Старобинец это архетип Другого, постоянно наблюдающего за тобой, оставаясь при этом незримым. Когда-то из страха перед ним жилье окропляли святой водой, теперь же из этого же страха заклеивают веб-камеры на ноутбуках.
Про мифологические истоки литературы ужасов, например, Лавкрафта или Клайва Баркера промолчим из-за самоочевидности. Заметим лишь, насколько показательно то, каким неубедительным становится хоррор, стоит автору переключиться из регистра медиа в регистр мифа. Свидетельство тому — самые неудачные сюжетные ходы многих вещей Стивена Кинга, которые даже самым упрямым его поклонникам кажутся инородными в теле кинговского текста.
3.
Хоррор космополитичен, литература ужаса национальна. Истоки космополитизма хоррора мы бы возвели к мультикультурному составу персонажей и разнообразию географических локаций «Дракулы» Брэма Стокера. Этот шедевр поздней готики, созданный ирландцем, населяют англичане, румыны, условный северянин Ван Хельсинг, американец и по совместительству ходячий бог из машины Квинси Моррис. Примечательно и то, что источник своего творения Стокер нашел в иной, восточноевропейской истории и культуре.
То, что мы называем литературой ужаса, напротив, осмысляет собственный национальный историко-культурный код. В этом плане показателен все тот же «Домосед» Анны Старобинец, действие которого разворачивается параллельно в двух временных пластах: в разгар сталинского террора и на закате 2000-х. Хозяин квартиры, в которой обитает рассказчик-домовой — ученый, коллега и, судя по всему, друг-ученик самого Ландау. По доносу жены он отправляется туда, куда и его великий наставник — в неизвестность чекистских застенков, — чтобы чудом спастись, когда начнется война и власти потребуются ученые, готовые трудом оплатить долг за неблагонадежность. В новейшем времени на его месте оказывается сам домовой, оказавшийся в неоплатном долгу у своего собрата, охраняющего булочную: за съеденный крендель ему приходится отдать куда больше, чем оно того стоило (чем, к слову, не материализация кондитерских фантазий Стивы Облонского из «Анны Карениной»?).
Историческое, взятое из самых темных углов нашего прошлого, находит отражение в описании настоящего, дополняя его предельно ясными красками ужаса. Весьма характерно, что Старобинец даже вводит в свое повествование реальный документ — обращение жильцов дома на Спиридоновке с требованием превратить близлежащую церковь в клуб. Пришедшему нам на ум Стокеру важен наднациональный и потому размытый опыт страшного, Старобинец обращается к опыту с четко обозначенными границами и временем и, кроме того, тщательно задокументированному. Также опыт сталинских репрессий из-за неоднозначного восприятия в обществе указывается как опыт еще не до конца пережитый, не до конца прожитый. Похоже, что наше общество никогда не придет к единодушному осуждению либо одобрению пресловутого 1937-го — а потому этот ужас снова и снова будет демонстрировать свои рудименты в нашем постоянном настоящемНа подобное свойство ужаса указывает, к примеру, Ник Ланд в эссе «Нарциссизм и рассеивание в интерпретации Тракля Хайдеггером в 1953 году»: «Тракль созерцает „дух“ (Geist) из той сущности (Wesen), что может быть названа „духом“ в исконно-первоначальном значении этого слова, ибо gheis означает: быть рассерженным, объятым ужасом, быть вне себя (aufgebracht, entsetzt, außer sich sein). Гегелевский дух, можно сказать, оказывается entsetzt из-за космологического извержения, но смысл ужаса меняется в рамках радикального подхода Хайдеггера, где Entsetztheit нельзя рассматривать как разграничивающий отклик на анархический взрыв космических обломков, ведь это лишь только его инерционное затягивание. Таким образом, Хайдеггер вручает нам герменевтический ключ, согласно которому каждая реакция духа на Ausschlag может быть прочитана как симптом или повторение вспышки „самой по себе“. Уже даже не столько дух заражается иррациональностью; скорее, дух растворяется в самом движении инфекции, превратившись в вирулентный элемент заразной материи»..
Обратимся к другому рассказу Анны Старобинец, который называется «Неуклюжи» и жанрово относится как раз к чистому хоррору. История, рассказанная в этой новелле, проста: переутомленный мизантроп долго едет в душном вагоне, а затем происходит атака террористов, распыливших смертельный газ по разным веткам метро — более чем очевидная отсылка к известным событиям в Токио. Действие «Неуклюжей» без всякого ущерба содержанию можно переместить в любое пространство, где есть метрополитен и существует террористическая угроза — то есть в любой мегаполис мира.
4.
И здесь мы хотим указать на еще одно свойство, отличающее литературу ужаса от хоррора. Хоррор нуждается в условной локации, литературе ужаса достаточно реальной. Характерный пример условной локации — Дерри или даже скорее Касл-Рок, предельно обобщенный образ захолустного американского городка, на географическую принадлежность которого к конкретному штату указывает лишь то, что мы верим автору на слово и допускаем, что находится он в Новой Англии.
Литература ужаса, напротив, досконально описывает конкретную локацию со всеми ее характерными свойствами. Как правило, ее можно найти на карте, как гоголевскую Диканьку, в других случаях она может быть образом собирательным, но все же характерным и узнаваемым — как подмосковный Гнищев из «Резкого похолодания» Старобинец, представляющий собой по сути город — мусорный полигон. В этом смысле Гнищев близок лавкрафтовскому Данвичу, типичному новоанглийскому городку, населенному угрюмыми затворниками, хранителями строгой квакерской морали.
 Реальная же локация в литературе описывается с тщательностью, позволяющей пользоваться текстом как картой ограниченной территории (художественная традиция, восходящая в русской литературе к Гоголю, Булгакову и так далее). Подобно тому, как в «Мастере и Маргарите» тщательно воспроизводится география и топонимика Москвы, так и Анна Старобинец делает реальные улицы и строения реальными действующими лицами, самим своим существованием оказывающими роковое влияние на судьбы героев «Домоседа», намертво привязанных к пространству:
Реальная же локация в литературе описывается с тщательностью, позволяющей пользоваться текстом как картой ограниченной территории (художественная традиция, восходящая в русской литературе к Гоголю, Булгакову и так далее). Подобно тому, как в «Мастере и Маргарите» тщательно воспроизводится география и топонимика Москвы, так и Анна Старобинец делает реальные улицы и строения реальными действующими лицами, самим своим существованием оказывающими роковое влияние на судьбы героев «Домоседа», намертво привязанных к пространству:
«Осенью тридцатого года церковь снесли. Новое здание затеяли строить только в тридцать втором, достроили в тридцать четвертом, так что даже если во время сноса кто-то из нашей родни выжил, за эти четыре бездомных года они погибли уже наверняка».
5.
Хоррор сообщает о коллективе, литература ужаса — об индивиде. Да простят нас поклонники Стивена Кинга, к которым мы и сами относимся, но снова придется помянуть мастера всуе и обратиться к его писательскому методу. Практически все крупные вещи Кинга — это истории сообществ: дружеского коллектива («Оно», «Ловец снов»), соседства («Томминокеры», «Буря столетия») или даже нации («Противостояние»). Если использовать совсем уж ветхую терминологию, хоррор стремится к эпическому повествованию, в котором трудно выделить главное действующее лицо, а опыт ужаса переживается как коллективный, включающий среди прочего страх за другого (товарища, ребенка, возлюбленного) и страх самого другого, прежде бывшего близким (прозу Кинга населяют многочисленные «оборотни» — отцы и мужья, оказывающиеся чудовищами).
В повестях и рассказах Анны Старобинец ужас, напротив, концентрируется в единичном сознании отдельно взятого персонажа и зачастую даже не имеет очевидных внешних раздражителей, оказываясь ужасом, вызванным самой способностью испытывать ужас, как, например, в рассказе «Прямо и налево». В этом проза Старобинец наследует маленькому шедевру русской литературы ужаса — рассказу Юрия Олеши «Лиомпа».
6.
Хоррор подразумевает серийное воспроизводство (сиквелы, приквелы, спин-оффы), литература ужаса предлагает законченное произведение. Цель хоррора — не столько произвести выдающийся сеттинг, сколько создать антагониста — обязательно запоминающегося и легко воспроизводимого средствами медиа и маркетинга. Стокеровский Дракула, несмотря на завершенность оригинального романа Стокера, пережил собственную гибель и отправился в многолетнее путешествие по книгам и кинокартинам разной степени качества. Трансильванский вампир стал первым в бесконечном списке антигероев, которые оказываются единственными полноценными персонажами в то время как все остальные герои нарратива обслуживают его волю к ужасу и специфику воплощения этой воли (грубо говоря, желание расправляться с жертвой клыками, бензопилой или силой мысли).
Литература ужаса знает сеттинг, но не знает четко оформленного антагониста. Древние боги Лавкрафта крайне редко проявляют себя в действии, предпочитая оставаться невидимым ландшафтом, в котором развивается ужас. Проза Анны Старобинец также не дает нам четко оформленного антигероя — сталинские чекисты подобны бесплотным теням, проникающим в жилище и забирающим все, что нужно их незримому хозяину, волшебница с мусорной горы в «Резком похолодании» проявляет себя поступками и посланиями, но так и не предстает в своей зловещей красе, оставляя нам довольствоваться лишь догадками, сомнениями и, как следствие, самопроизводимым ужасом. К прозе Старобинец нечего прибавить, потому что она сразу исключает медийную привлекательность для потенциального фанфика.
7.
Наконец, хоррор ориентируется на экран, литература ужаса — на книгу. Для иллюстрации этого тезиса вспомним три экранизации романа Стивена Кинга «Оно»: телефильм Томми Ли Уоллеса 1990 года, недавнюю киноадаптацию Энди Мускетти и индийский сериал, насчитывающий более пятидесяти эпизодов. Несмотря на абсолютно разный подход к реализации и несхожие культурные контексты, все три попытки перенести оригинальный текст на экраны разного масштаба выполнены на равном художественном уровне. В этом эстетический универсализм хоррора: его драматургии хватает и на мини-сериал, и на полнометражную картину, и на мыльную оперу.
 Литература ужаса принципиально подчеркивает свою книжность, движущая сила текста — сугубо литературные приемы. В случае с прозой Старобинец это пресловутое остранение, становящееся для автора способом вовлечь читателя в перипетии текста. Наиболее виртуозно это реализовано в повести «Резкое похолодание». Ее героиня — маленькая девочка-аутсайдер, уверенная в том, что обладает сверхспособностью убивать людей, многократно повторяя (и тем самым уничтожая) их имена. Детскую оптику Старобинец реализует с педантичностью излишне прилежной ученицы, будто только что прочитавшей труды Шкловского и лучше всего усвоившей анализ сцены с Наташей Ростовой в опере. Например:
Литература ужаса принципиально подчеркивает свою книжность, движущая сила текста — сугубо литературные приемы. В случае с прозой Старобинец это пресловутое остранение, становящееся для автора способом вовлечь читателя в перипетии текста. Наиболее виртуозно это реализовано в повести «Резкое похолодание». Ее героиня — маленькая девочка-аутсайдер, уверенная в том, что обладает сверхспособностью убивать людей, многократно повторяя (и тем самым уничтожая) их имена. Детскую оптику Старобинец реализует с педантичностью излишне прилежной ученицы, будто только что прочитавшей труды Шкловского и лучше всего усвоившей анализ сцены с Наташей Ростовой в опере. Например:
«Мы идем по лесной тропинке. У нас у всех грустные лица, и у меня тоже. Сейчас нельзя улыбаться. Мы все говорим шепотом, и я тоже. Сейчас нельзя говорить громко.
Это я скатилась на лыжах по крутому западному склону, это я упала, это я едва не разбилась, но мой отец нес на руках не меня.
Он несет Леночку. Ее длинные тонкие ноги некрасиво болтаются. Леночкин папа молча идет рядом и внимательно рассматривает снег. Почему же он не несет ее сам? Почему это делает мой отец?
На снегу там, где проходит отец, остаются маленькие красные дырочки. Это из-за Леночки. С ее красивого горнолыжного костюма падают красные капли и буравят дырочки в снегу».
И так далее. Через эту подчеркнуто наивную, непонимающую оптику Старобинец убеждает читателя в том, что все несчастные случаи, происходящие с окружением рассказчицы — лишь случайности, которые излишне богатая фантазия девочки приписывает ее воле. Лишь на финише читатель обнаруживает, что его ловко обхитрили, и взгляд рассказчицы был вполне достоверным: то, что притворялось реалистической деконструкцией фантастического, оказалось фантастическим во всей своей полноте.
Думаем, не будет сильным преувеличением заметить, что если жанровая литература хочет сохранить читателя, ей, как ни парадоксально, придется в своем развитии стремиться к архаичной работе по литературному строительству текста. В идеале литература ужасов должна стать не просто принципиально неэкранизируемой, а недоступной чувственному переживанию-проговариванию в сознании читателя, подобно лавкрафтовскому цвету из иных миров. Литература ужаса должна сделать еще один шаг в сторону абстракции, туда, где скрыты первоосновы нашего негативного опыта столкновения с действительностью, чтобы извлечь и показать миру «один страх, один его принцип, который проявляется в различных вариациях и формахЛеонид Липавский, «Исследование ужаса»».