В принсипы не верит, а в лягушек верит
5 попыток сблизить социальные науки с естествознанием
1. Позитивизм
Огюст Конт. Дух позитивной философии: Слово о положительном мышлении. М.: URSS, 2012. Перевод с французского И. А. Шапиро
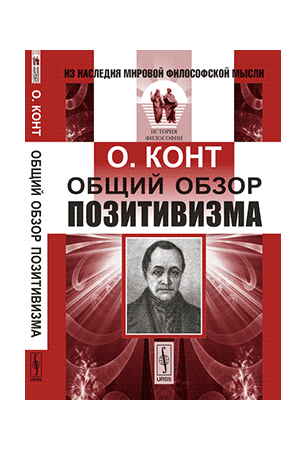
Огюст Конт стал одним из первых, кто на волне достижений естественных наук в XIX в. попытался распространить их принципы на общественные науки. Он выдвинул идею «позитивного мышления», основанного на научном методе. В развитии знания он выделял три стадии — богословскую, метафизическую и собственно научную. Любимой наукой Конта была астрономия. Успех астрономии, сумевшей в Новое время отделиться от богословия и метафизики и выработавшей научные основания, для Конта служил иллюстрацией того, что социология тоже на это способна.
Проблематичным в декларации Конта оказалось то, что он не предложил конкретного метода, как это сделать. Те немногие практические указания, которые он дает в своей работе — собирать эмпирический материал и выводить из него законы развития общества, — оказались не услышаны, да и вряд ли могли быть реализованы в условиях XIX века. В итоге у последователей Конта «научность» на практике нередко означала не более чем использование естественнонаучных метафор. Явные неудачи на этом пути привели к тому, что к концу XIX в. слово «позитивизм» сделалось бранным, а гуманитарии надолго укрепились в убеждении, что предмет «наук о духе» специфичен и непостижим методами низменного естествознания.
Пожалуй, самым курьезным продуктом теории Конта стали «Ругон-Маккары» Эмиля Золя. Изначально романист задумывал свой цикл как лабораторный эксперимент по изучению наследственности, несколько упустив из виду, что имеет дело с вымышленными персонажами. Но любим мы Золя не за это. А тем временем социология, на заре XXI столетия, в эпоху big data, и вправду потихоньку делает шаги в направлении идеала Конта.
2. Эволюционизм
Герберт Спенсер. Опыты научные, политические и философские. Минск: Современный литератор, 1999. Перевод с английского под редакцией Н. Я. Рубакина

Некогда Герберт Спенсер (1820–1903) был едва ли не самым влиятельным теоретиком социальных наук. Но ко второй половине XX в. он оказался прочно вытеснен на периферию. По историческому недоразумению: на Спенсера возложили ответственность за возникновение социал-дарвинизма (это слово сделалось особенно страшным обвинением после того, как мир пережил опыт нацизма).
Если понимать термин «социал-дарвинизм» строго буквально — как применение законов биологической эволюции к социальным явлениям, — то, пожалуй, теория Спенсера может быть так названа. Взгляды Спенсера на частные вопросы менялись с возрастом, однако основа их сохранялась: общественные и культурные институты эволюционируют так же, как биологические виды, и если формы биологической жизни зависят от природных условий, то формы культурной и социальной жизни — от исторических. Представления об эволюции общества, культуры и искусства в наши дни стали общим местом. Но, когда Спенсер впервые высказал свои идеи в середине XIX в., все это было новым, неожиданным и не лишенным скандальности.
Для прояснения развития общества и культуры Спенсер привлекал сравнительные данные истории и этнографии. Сейчас этот метод мы бы назвали исторической антропологией, и он тоже давно нажил почтенную репутацию. Бранная кличка «социал-дарвинизм» обычно подразумевает культ кулачного права и отрицание альтруизма. Но как раз это у Спенсера вычитать затруднительно, хотя современного читателя и могут покоробить рассуждения о «низших расах» и некритически пересказанные миссионерские байки о дикарях (универсальная особенность научной литературы того времени, когда этнография и антропология находились в зачаточном состоянии). Вместе с тем Спенсер на протяжении всей жизни боролся за этичный бизнес, за гуманизацию тюрем и верил в естественный моральный прогресс человечества в ходе эволюции:
«Как теперь не приходится воспрещать людоедство, так со временем не нужно будет воспрещать убийство, воровство и второстепенные преступления нашего уголовного кодекса. Когда человеческая природа дорастет до единства с нравственным законом, в судьях и уложениях не будет больше надобности...»
Исторический оптимизм Спенсера выглядит и наивно, и освежающе в эпоху, когда цинизм превратился в расхожий способ демонстрировать умудренность. В целом же внушительное собрание его трудов читается в наши дни утомительно: его философские соображения по большей части либо устарели, либо стали банальностью (что выглядит по-настоящему живо и актуально, так это его экономические памфлеты).
3. Бихевиоризм
Джон Б. Уотсон. Психология как наука о поведении. М.–Л.: Госиздат, 1926. Перевод с английского В. М. Боровского
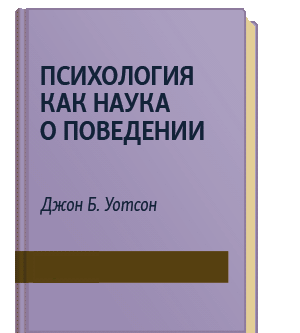
Бихевиоризм, переживший бурный взлет в первой трети XX в. и бесславный закат впоследствии, стал, вероятно, самой последовательной попыткой поставить изучение человека на строгую научную основу. На волне эйфории от открытия условных рефлексов И. П. Павловым бихевиористы объявили, что могут свести к условным рефлексам все человеческое поведение, как на микро- , так и на макроуровне. Основоположником школы был Дж. Б. Уотсон (1878–1958). В 1920 г. широкую известность получил его эксперимент с младенцем под кодовым именем «Маленький Альберт», которому внушали страх перед различными объектами (например, белой крысой). Если верить Уотсону, опыт по «обусловливанию» страха удался, и следующим этапом должно было стать отучение ребенка от страха. Однако опыт был прерван, и дальнейшая судьба «Маленького Альберта» осталась неизвестной. Вскоре такие опыты будут считаться неэтичными, а отчет о «Маленьком Альберте» оставит глубокий след в мировой литературе — именно этой реальной историей вдохновился Олдос Хаксли, описывая воспитание детей будущего в своей антиутопии «О дивный новый мир». Уотсон же запомнился главным образом хвастливой декларацией о том, что способен воспитать из любого ребенка хоть математика, хоть преступника.
В полном соответствии со взглядами Уотсона на психику как на набор рефлексов львиная доля его книги посвящена анатомии и физиологии человека, и, хотя автор знает предмет досконально, читается это в эпоху Википедии и тематических форумов крайне уныло. Читатель чувствует, что его надули: где же собственно психология? В настоящее время книга Уотсона представляет собой интерес лишь как исторический источник по предрассудкам и стереотипам начала прошлого столетия в отношении детей: чего только стоит утверждение, будто привязанность ребенка к матери обусловлена тем, что она пошлепывает его по «эрогенным зонам»!
4. Этология
Конрад Лоренц. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества; Так называемое зло; Оборотная сторона зеркала. М.: Культурная революция, 2008. Перевод А. И. Федорова под редакцией А. В. Гладкого
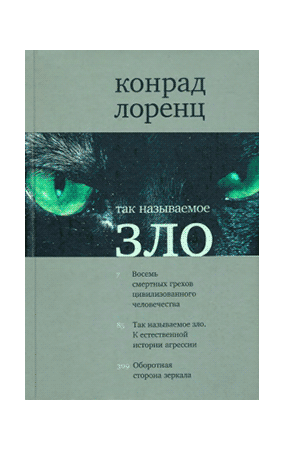 Из всех ученых XX в. к Конраду Лоренцу (1903–1989) — главному оппоненту бихевиоризма — больше всего подходит модное слово «неоднозначный». Крупнейший специалист по поведению животных подпортил себе биографию, побывав в советском плену как нацист. Долгое время считалось, что австриец Лоренц был насильственно призван в вермахт, и в России это убеждение все еще бытует. Однако в 1990-е гг. вскрылись неприглядные факты: Лоренц не только вступил в НСДАП еще в 1938 г., но и участвовал в расовой политике нацистов, тестируя детей от смешанных польско-немецких браков на пригодность к «германизации».
Из всех ученых XX в. к Конраду Лоренцу (1903–1989) — главному оппоненту бихевиоризма — больше всего подходит модное слово «неоднозначный». Крупнейший специалист по поведению животных подпортил себе биографию, побывав в советском плену как нацист. Долгое время считалось, что австриец Лоренц был насильственно призван в вермахт, и в России это убеждение все еще бытует. Однако в 1990-е гг. вскрылись неприглядные факты: Лоренц не только вступил в НСДАП еще в 1938 г., но и участвовал в расовой политике нацистов, тестируя детей от смешанных польско-немецких браков на пригодность к «германизации».
В послевоенное время Лоренц обратился к проблемам человеческого общества, написав серию работ на эту тему. Они производят столь же двойственное впечатление, как и фигура их автора. С одной стороны, Лоренц буквально заваливает читателя фактическим материалом данных о брачных и агрессивных ритуалах различных животных, создавая впечатление научной основательности. С другой стороны, автор — пылкий моралист, которого безмерно раздражает современное человеческое общество. Его идеал — дикие хищные животные, у которых, по его мнению, имеются встроенные механизмы обуздания агрессии против сородичей, отсутствующие у приматов. По мнению Лоренца, ужасы человеческих войн XX в. объясняются тем, что «на таких слабо вооруженных животных не действовало селекционное давление, которое могло бы выработать сильные и надежные запреты убийства», и к изобретению оружия массового поражения человек оказался не подготовлен.
Однако в книге «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» Лоренц предлагает иную характеристику исторического процесса — «генетическое вырождение» человечества в результате процесса, аналогичного одомашниванию животных. Известный феномен упрощения поведения у домашних животных проецируется им на человечество — «в массе своей деградировавшее, отчужденное от природы, верящее лишь в коммерческие ценности, эмоционально нищее». Смущает в этих рассуждениях не столько то, что виновниками деградации предсказуемо оказываются либеральная демократия и сексуальная революция, сколько то, что, на словах отмежевываясь от сторонников газовых камер, Лоренц повторяет в этом сочинении тезисы своих ранних статей 1940-х гг. о евгенике. В этой работе как нигде очевидно, что враждебность Лоренца по отношению к бихевиоризму имела не научные, а политические корни: Лоренц до конца жизни верил во врожденную неполноценность преступников и был противником универсальных прав человека. Парадоксальным образом Лоренц, которого и не подозревали в социал-дарвинизме, был самым настоящим социал-дарвинистом — в отличие от Герберта Спенсера (классический пример иллюстрации к поговорке «валить с больной головы на здоровую»).
5. И снова этология
Франц де Вааль. Истоки морали: В поисках человеческого у приматов. М.: Альпина нон-фикшн, 2018. Перевод с английского Н. Лисовой
 В 1948 г., как раз когда Конрад Лоренц был выпущен из советского лагеря для военнопленных, в Нидерландах родился Франц де Вааль, который тоже избрал специальность этолога. Однако его подход кардинально отличался от подхода Лоренца. Как и Лоренц, де Вааль полагает, что корни социальных и культурных процессов могут уходить в биологическую эволюцию. Но, в отличие от Лоренца, его не интересуют формы инстинктивного поведения, импринтинг и реакция на стимулы. Он решительно подошел к этологии с «обратного конца», взявшись за изучение того, что думают о человеческом поведении гуманитарии. Под впечатлением от чтения Макиавелли он озаглавил свою дебютную книгу «Политика у шимпанзе» (1982). Эпатажное по тем временам заглавие декларировало полный разрыв с традицией запрета на антропоморфизм, устоявшейся в естественных науках в XX в. Если предшествующая научная традиция искала способ объяснить человеческое общество, редуцировав его к природному миру, то де Вааль не редуцирует, но заново включает человеческие явления в природный мир. Его обезьяны обнаруживают альтруизм и представления о справедливости. Лоренц полагал, что шимпанзе до сих пор не поубивали друг друга только потому, что им это не под силу физически — де Вааль открыл у них сложную систему разрешения конфликтов. Суждения де Вааля нередко столь же публицистичны, как и у Лоренца, а в его историко-культурных познаниях присутствуют характерные для биологов пробелы, — и всё же его книги, в особенности «Истоки морали», дают яркий пример того, как некоторая гуманитарная подготовка способна обогатить естественнонаучное направление.
В 1948 г., как раз когда Конрад Лоренц был выпущен из советского лагеря для военнопленных, в Нидерландах родился Франц де Вааль, который тоже избрал специальность этолога. Однако его подход кардинально отличался от подхода Лоренца. Как и Лоренц, де Вааль полагает, что корни социальных и культурных процессов могут уходить в биологическую эволюцию. Но, в отличие от Лоренца, его не интересуют формы инстинктивного поведения, импринтинг и реакция на стимулы. Он решительно подошел к этологии с «обратного конца», взявшись за изучение того, что думают о человеческом поведении гуманитарии. Под впечатлением от чтения Макиавелли он озаглавил свою дебютную книгу «Политика у шимпанзе» (1982). Эпатажное по тем временам заглавие декларировало полный разрыв с традицией запрета на антропоморфизм, устоявшейся в естественных науках в XX в. Если предшествующая научная традиция искала способ объяснить человеческое общество, редуцировав его к природному миру, то де Вааль не редуцирует, но заново включает человеческие явления в природный мир. Его обезьяны обнаруживают альтруизм и представления о справедливости. Лоренц полагал, что шимпанзе до сих пор не поубивали друг друга только потому, что им это не под силу физически — де Вааль открыл у них сложную систему разрешения конфликтов. Суждения де Вааля нередко столь же публицистичны, как и у Лоренца, а в его историко-культурных познаниях присутствуют характерные для биологов пробелы, — и всё же его книги, в особенности «Истоки морали», дают яркий пример того, как некоторая гуманитарная подготовка способна обогатить естественнонаучное направление.