В ожидании Ферганы
«Перечень» Шамшада Абдуллаева
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Шамшад Абдуллаев. Перечень. М.: Носорог, 2023. Содержание
1
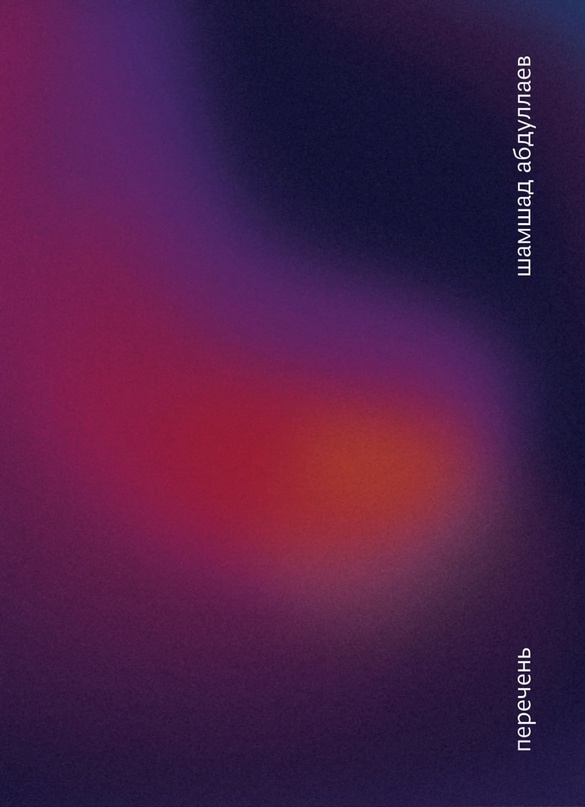 Одна из главных вех в истории литературы ХХ века — это послевоенный переход от модернизма к постмодернизму, от Джеймса Джойса — к Сэмюэлю Беккету, от Владимира Набокова — к Венедикту Ерофееву. Необратимость этого перехода была предопределена невозможностью говорить на высокие темы после Второй мировой войны. Допускалось либо молчание, либо истеричный смех, либо ожидание Годо, либо электричка до Петушков. Судьбоносная развилка была здесь. «Если хочешь идти налево, Веничка, — иди налево. Если хочешь направо — иди направо».
Одна из главных вех в истории литературы ХХ века — это послевоенный переход от модернизма к постмодернизму, от Джеймса Джойса — к Сэмюэлю Беккету, от Владимира Набокова — к Венедикту Ерофееву. Необратимость этого перехода была предопределена невозможностью говорить на высокие темы после Второй мировой войны. Допускалось либо молчание, либо истеричный смех, либо ожидание Годо, либо электричка до Петушков. Судьбоносная развилка была здесь. «Если хочешь идти налево, Веничка, — иди налево. Если хочешь направо — иди направо».
Годо, как известно, так и не пришел, и писатели выбрали второй путь — путь иронии и постиронии, меланхолической насмешки над реальностью. Беззаботное путешествие постмодернистов длилось больше полувека и оборвалось в наши дни. История — этот бесконечный кошмар, из которого нельзя выбраться, как писал Джойс, — преподала трагический урок реальности. Уже полтора года никто не смеется (кроме небесных ангелов, конечно). Уже полтора года мы видим перед собой, как священник из «Чилийского ноктюрна» Роберто Боланьо, поседевшего юнца.
Может, стоит оглянуться назад и задать вопрос: а могла литература пойти по иному пути после Второй мировой войны? Или так: по какому пути литература должна пойти сейчас?
Я часто задавал себе эти вопросы — вопросы, определяемые теперь уже ХХI веком, — когда читал эссе Шамшада Абдуллаева, вошедшие в сборник «Перечень».
Часть эссе посвящена Фергане, его родному городу («Визуальная проза для окрестного ландшафта», «Фергана среди литературных страниц»), часть — разбору собственных и чужих стихотворений, от Рене Шара до Марио Луци, часть — конкретным личностям, от Василия Кондратьева до Пауля Целана, а часть — кинофильмам, от «Календаря» Атома Эгояна до «Без крыши, вне закона» Аньес Варды. Другой юг, итальянский герметизм, петербургский андеграунд, авторский кинематограф — привычные для литературы Абдуллаева темы.
Радикальный стиль Абдуллаева тоже не претерпел изменений. Он по-прежнему пользуется языком, в котором нарушены нормы обыденной речи, и читателю приходится переучивать себя чтению. Принципиальное отрицание автором «картезианской мании», то есть основ рационального мышления, а также нарративности, психологизма, композиции, даже грамматического порядка слов в предложениях, — все это причиняет нам головную боль, которая впоследствии может обернуться — цитирую — «благотворной агонией».
Повторюсь еще раз: читать эссе Абдуллаева, как и его стихи или рассказы, трудно, очень трудно. Но эта трудность порой одаряет нас побочными истинами. Так, при чтении очередного эссе я потерял связь с авторской мыслью, уйдя в воспоминания, как в студенческие годы увлекался такими же трудно читаемыми текстами феноменологов и экзистенциалистов ХХ века. Одним из них был «маленький волшебник», вокруг которого по сей день ведутся морализаторские споры, — всем известный «волшебник», укрывшийся после очередной войны в идиллической немецкой глуши в шварцвальдских горах.
2
Если условиться, что литература — это одиссея, то можно сказать, что нет такого писателя, который не ставил бы своей конечной целью возвращение домой. Но прежде чем отправиться в новую одиссею, писатели составляют карту незнакомой местности или хотя бы держат в кармане компас.
Отличие Шамшада Абдуллаева в том, что он не берет с собой карты или компаса, — он берет кинокамеру. Когда он пишет стихи, его киноглаз смотрит на небо; когда пишет рассказы и эссе — на горизонт. Он не смеется и не молчит, он спокойно и терпеливо запечатлевает с помощью потока слов собственное присутствие в видимом мире, надеясь тем самым этот мир оживить. «Тактике скорости и шума мы обязаны противопоставить тактику неторопливости и молчания», — цитирует он Робера Брессона в эссе «Продолжение». Его литература — интеллектуальная наследница медленного, очень медленного кинематографа, в котором самые значимые события — наименее заметные: «Бездонные кулисы последней чересчур короткой сцены ссылаются на антониониевское „Приключения“: девушка задевает ногой ветку ползучего куста — именно для этой мешкающей мимолетности сделан фильм, — находишь утешение в мысли, что режиссеры пятидесятых и ранних шестидесятых снимали картины так, чтобы зрители, которым они, в отличие от сегодняшних фильммейкеров, фанатично доверяли, видели в кадре больше, чем он содержал».
«Мешкающая мимолетность» Антониони понадобилась Абдуллаеву в эссе, посвященном фильму Атома Эгояна «Календарь». По сюжету фильма, фотограф и его жена, потомки беженцев из Западной Армении, приезжают из Канады в Армению — то есть в Восточную Армению, или в то, что от нее осталось после катастрофы 1915 года, — чтобы подышать родным воздухом, послушать родную речь, пофотографировать родные земли и так далее. Но их возвращение оборачивается семейной драмой: жена фотографа влюбляется в шофера, который повез их в горы. Эгоян — искусный мастер психологической мотивировки — в финале фильма цитирует «Головокружение» Хичкока — другого мастера психологизма.
Но Абдуллаев отсекает эгояновский психологизм и выделяет в фильме мимолетные фрагменты, которые «можно включить в любую мировую киноантологию», — фрагменты, подчеркивающие антропологическую разницу между канадским фотографом, человеком западной цивилизации, который ищет геометрию даже в хаотичных горных пейзажах Армении, и простодушным шофером, подшучивающим над фотографом. Антропологическая разница выражается в «потерянности мужчины [фотографа], мечущегося с аккуратной спокойной внешностью между западноцентристской оптикой и родовой инаковостью». Эти слова — больше, чем резюме фильма, эти слова — отражение фундаментального выбора самого Абдуллаева, который остался в «глуши», в «долинном захолустье», в «пыльной южной изоляции» Ферганы, потому что здесь он избавился от ненужного метания, потому что здесь он обрел «более или менее честное присутствие».
Рационализируем. Отказ от «картезианской мании» дарит Абдуллаеву созерцание мимолетной повседневной жизни, благодаря чему он обретает «более или менее честное присутствие» в Фергане, из которой он принципиально никуда не уедет, чтобы не утратить «родовую инаковость», — даже когда «серое месиво истории» (Грамши) вновь добирается до него.
В эссе «Продолжение» (возможно, ключевое для этого сборника) Абдуллаев вспоминает события июня 1989 года, когда в Фергане произошла резня, устроенная узбеками против турков-месхетинцев, и подчеркивает, что она — то есть резня — «поколебал[а], не задев патерналистских икон, прежде всего надежную эфемерность локальной атмосферы, которая, словно юнгеровский труженик, коренилась там, откуда теперь бессрочно читается не смысл ясного послания сильной риторики, но молитвенная диалектика ожидаемой вести: сколько лет, столько зла». Под диалектической «надежной эфемерностью локальной атмосферы» Абдуллаев имеет в виду бытие Ферганы (как и любой другой захолустной южной окраины), которое открывается наблюдателю во время неторопливого визуального исследования ее местности, — бытие, которое важнее Истории и ее «чар цивилизационного благополучия».
«Посему, — пишет Абдуллаев, — в каждый период длящегося обихода [то есть Истории] наиболее нормальная манера быть вблизи спокойного Источника — принять тусклый тип частного существования, которое противится хлесткому нетерпению и въедливости позитивистских идиом извне». Что за «спокойный Источник», противостоящий Истории? Это уже упоминаемое «присутствие». В финале этого эссе Абдуллаев цитирует Гертруду Стайн («важно существующее, а не происходящее») и в очередной раз настаивает, что наперекор морализаторским тенденциям современной культуры (например, новой этике) надо говорить «о присутствии, которое менее всего проявлено, о продолжающемся продолжении, призванном выдать весь исторический шлак».
3
Если «маленький волшебник» преподавал философию в Фрайбургском университете и затем спрятался в шварцвальдских горах, то другой волшебник — а точнее, хмурый венский скиталец — в 1941 году бросил Кембридж («преподавать философию, пока идет война, невыносимо») и устроился разносчиком лекарств в лондонской больнице, которая была объектом бомбардировок нацистской авиации. Ему было 52 года, он был мировой звездой философии, но почти никто в больнице не знал об этом; к слову, он тоже писал пугающе сложным языком, для понимания которого надо переучиваться чтению, а еще обладал несносным угрюмым характером. Но во время войны (нескончаемого кошмара истории) он, повторюсь, бросился наперекор инстинктивным страхам на помощь людям. А затем, когда в феврале 1944 года вернулся в Кембридж, в его записной книжке появилась такая заметка: «Верь! Это не повредит».
Можно вспомнить и другую личность, чьи стихи и пьесы предопределили омертвелый дух послевоенной литературы, — Сэмюэля Беккета. В 1940 году Париж был оккупирован немецкими войсками, и Беккет, гражданин нейтральной страны, присоединился к французскому Сопротивлению. Следующие два года, рискуя жизнью, он работал на них курьером. В 1942 году подполье было разбито нацистами, и Беккет вместе с женой бежали из Парижа, дойдя пешком до Руссильона, деревушки на юге страны. Еще два года оккупации они прожили в этой деревне, работая на ферме и тайно помогая бойцам Сопротивления. В то же время Беккет работал над романом «Уотт», в котором все нормы английской грамматики были нарушены, а композиция поломана, и читать его, мягко говоря, трудно; тем не менее это был переходный, даже революционный роман для ирландского писателя, который подвел его к написанию знаменитой трилогии: «Моллой»,«Мэлон умирает» и «Безымянный». После войны Беккет устроился работать в Красный Крест и весной 1946 года приехал в разрушенный от бомбардировок город Сен-Ло. Под впечатлением от увиденного он написал радиопьесу «Столица руин» и стихотворение «Сен-Ло», в котором отразил, как современная поэзия должна свидетельствовать о катастрофе, отнявшей веру в «старое доброе картезианство», о чем пишет уже Абдуллаев в эссе, посвященном беккетовскому верлибру.
Это эссе играет не менее ключевую роль в «Перечне», потому что проливает свет на другую истину: для Абдуллаева человеческий мир (то есть «история, психология, двор, герой, долг, диалоги, дела — различные виды вечных ситуативных экспансий») кончился уже тогда, в послевоенных руинах, а все, что случилось потом — например, ферганская резня, — лишь продолжение кошмара, от которого нельзя очнуться. В поступке Беккета, в его работе на Сопротивление Абдуллаев не видит ничего значительного; биография всего лишь биография («Аристотель родился, работал и умер»); он не допускает, что выдающийся верлибр «Сен-Ло» никогда не был бы написан, если бы Беккет сделал другой выбор во время войны.
Все тот же венский скиталец писал в 1944 году, что «революционер — это тот, кто способен революционизировать самого себя». В эссе Шамшада Абдуллаева, несмотря на броский бесформенный радикальный стиль, этой революционности нет, потому что автор — и об этом говорят годы его творчества — в этом не нуждается. Он не покинет Итаку («другой юг»), чтобы поучаствовать в Троянской войне, не будет скитаться по свету, чтобы в конце концов вернуться домой.
Такая литература не выбирает между ожиданием Годо и электричкой до Петушков. Такая литература лежит под руинами Сен-Ло. «Лазарю, — пишет Абдуллаев, — предстоит еще раз не появиться на свет, дабы всецело не сгинуть».
А читатель пусть сделает свой выбор.