«Условность, подтасовка, совершенная горсткой ученых»
Дмитрий Борисов — о книге «Средневековая Европа. От падения Рима до Реформации»
Книга британского историка Криса Уикхема была переведена на русский язык в прошлом году, а спустя год оказалась в шорт-листе премии «Просветитель. Перевод». Как всегда, вполне заслуженно: книга охватывает тысячелетний период европейской истории, заостряя внимание не на фактах из школьного учебника, а на социальном устройстве и на царивших порядках, которые сегодня могут показаться нам... ну да, «средневековыми». Простите, трудно было удержаться от обыгрывания этого термина. Вот и Дмитрий Борисов, написавший о книге Уикхема в рамках совместного проекта «Горького» и «Просветителя», тоже не удержался.
Крис Уикхем. Средневековая Европа. От падения Рима до Реформации. М.: Альпина нон-фикшн, 2019. Перевод с английского Марии Десятовой, научный редактор Станислав Мереминский
Голое и страдающее
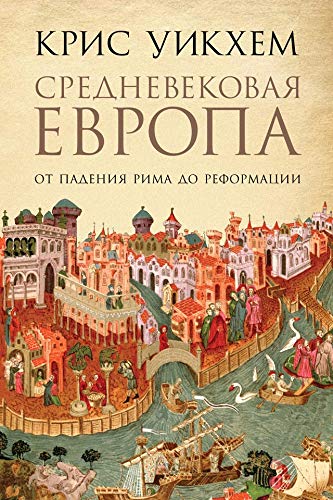 Не откроем Европу, если скажем, что для Средневековья разработано как минимум несколько периодизаций, но все их широким жестом можно типизировать и свести к двум. Одни медиевисты говорят, что их предмет изучения — это период между ~500-м и ~1500 годом. Другие утверждают, что Средние века — это где-то между 500-м и 1800-м.
Не откроем Европу, если скажем, что для Средневековья разработано как минимум несколько периодизаций, но все их широким жестом можно типизировать и свести к двум. Одни медиевисты говорят, что их предмет изучения — это период между ~500-м и ~1500 годом. Другие утверждают, что Средние века — это где-то между 500-м и 1800-м.
Профессор Оксфордского университета Кристофер Уикхем (принципиально подписывающий свои книги именем Крис — все равно, что Миша Вербицкий или Алеша Прокопьев) относится к первым.
Конечно, здесь не обойтись без оговорочек. Уикхем пишет:
«<...> можно подыскать конечный рубеж и получше, чем 1500 год, — например, 1700-й с его научными и финансовыми переворотами или 1800-й с его политическими и промышленными революциями. <...> Но такой подход означает, что какую-то из перемен придется признать первостепенной и отодвинуть остальные на задний план. Это значит придумывать новые границы, а не сопоставлять. Прелесть сохранения традиционной периодизации именно в искусственности вех в виде 500 и 1500 годов, поэтому на ограничиваемом ими историческом отрезке можно отслеживать на разных территориях параллельные изменения, не обязанные служить предпосылками некоего крупного исторического события — Реформации, революции, индустриализации или любого другого признака „современности“».
Само понятие «средневековый» имеет интересную историю, обрастая разными коннотациями в различных языковых и культурных контекстах. Со времен Римской республики люди говорили «средневековый», противопоставляя себя, «современных» (moderni), древним (antiqui, «античным»). Но в XIV–XV веках ученые благородные мужи начали применять термин «античный» к римским и предшествующим классикам, преемниками которых они себя считали. Теперь уже деятелей промежуточного тысячелетия, «предположительно уступавших им в мастерстве», стали относить к medium aevum, «Средним векам». А после в обиходном лексиконе слово «средневековый» чаще стали использовать как оценочное — «средневековые взгляды», «средневековые пережитки» и т. д.
Конечно, не без этого — в том убедится всякий, познавший «Страдающее...», «Голое...», «Чумазое Средневековье», а также другие аналогичные книги, обязательные в библиотеке каждого интеллигентного человека.
Как говорил герой Аркадия Райкина (совсем по другому поводу): «Эпоха была жуткая, настроение было гнусное, и атмосфера — мерзопакостная». Но, как сказал поэт, «история не знает, чтоб хоть раз была свобода» — с этим тоже спорить, что против ветра плевать.
«В XIX веке термин, прижившись, распространился и на другие области — „средневековое“ правительство, экономику <...> и так далее в противовес так же выпестованной в XIX веке идее Возрождения, с которого, как следовало полагать, и началась „современная“ история. Такое Средневековье — всего лишь условность, подтасовка, совершенная горсткой ученых. Однако представление это крепло по мере того, как нарастали все новые и новые слои „современности“», — пишет Крис Уикхем.
Дистиллированное Средневековье
Историк совершает противоположную операцию (но не в смысле переоценки ценностей — в нем нет «желания искать в истории мораль, славные времена, героев и злодеев»). Он слой за слоем очищает Средневековье, стараясь сделать его «дистиллированным», без примесей («однако углубляться в микроисторию социумов и культур <...> нам попросту не позволит объем книги»).
Например, уже вторая глава начинается так: «Почему пала Римская империя? Если коротко — она не пала».
В другом месте Уикхем пишет: «На самом деле „Европа“ — понятие тоже довольно условное. Это просто полуостров Евразийского материка, как и Юго-Восточная Азия. С северо-востока его отделяют от великих азиатских государств российские леса и необжитые сибирские пространства <...>. То есть Россия — это Европа (ее европейская часть — спасибо, Ипполит Ипполитыч), описанию исторических перипетий которой посвящено немало страниц «Средневековой Европы... »
А вот такие слова всякому бы марксисту в уста: «На протяжении всей книги важно учитывать простую истину: богатство и политическая власть строились на эксплуатации крестьянского большинства <...> Разумеется, это не значит, что крестьяне будут упоминаться на каждой странице, но почти всё, что упоминаться будет, существовало за счет излишков, подневольно отдаваемых в качестве ренты, и забывать об этом было бы ошибкой».
(Кстати, Крис Уикхем выступил в качестве редактора и одного из авторов сборника «Марксистское историописание XXI века»).
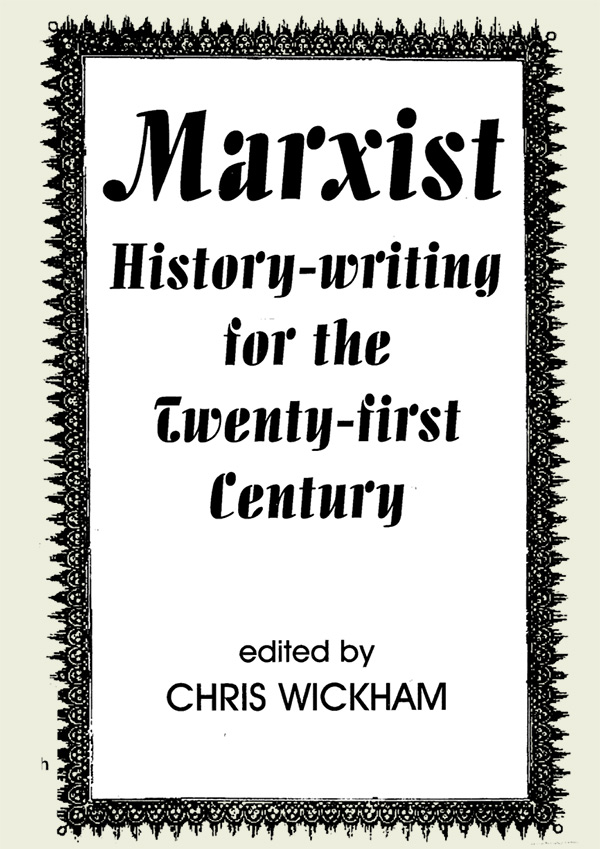 Сельскохозяйственная продукция была основным результатом человеческого труда в Средневековье. Поэтому земельные наделы были чрезвычайно важны. Землей могли владеть и свободные крестьяне, но основная часть территорий принадлежала военному дворянству, церкви или королю. Их доходы складывались из ренты, взимаемой с крестьян-арендаторов.
Сельскохозяйственная продукция была основным результатом человеческого труда в Средневековье. Поэтому земельные наделы были чрезвычайно важны. Землей могли владеть и свободные крестьяне, но основная часть территорий принадлежала военному дворянству, церкви или королю. Их доходы складывались из ренты, взимаемой с крестьян-арендаторов.
Крис Уикхем подчеркивает, что до 1200 года наемный труд на земле был крайней редкостью, а богатство феодалов — короля, духовной и светской знати — обеспечивалось тем, что можно взять с крестьянства.
«В Римской империи армия <...> была полностью наемной. Для ее содержания приходилось взимать высокие налоги с земледельцев, поскольку основным источником государственных доходов была земля. Тем самым обеспечивалось единство государства, и в основном именно упразднение прежней налогово-бюджетной системы привело к тому, что раннесредневековые преемники Римской империи не могли тягаться с ней в могуществе. <...> В конце Средневековья общее налогообложение вернется и в Западную Европу, хотя и уступая римскому масштабами и эффективностью. С одной стороны, оно реструктурирует ресурсы правителей, а с другой — создаст новые сложности: в частности, вынудит монархов заручаться согласием представителей знати и горожан, которым предстояло нести бремя финансирования армии (точнее, перекладывать его на своих крестьян)», — пишет Крис Уикхем.
Не про вашу честь
Крис Уикхем подчеркивает: думать, что в любом средневековом обществе бытовали одинаковые принципы — значит грешить против истины (впрочем, это еще раз про «Волгу, впадающую в Каспийское море»).
Конечно, были определяющие тенденции — например, наличие внебрачных детей не порочило мужчину почти нигде и никогда. Но и здесь есть исключение: лишь в позднесредневековой Ирландии «считалось позором не принять явившегося на порог с заявлением, что он ваш внебрачный ребенок», поэтому у ирландских лордов «таких детей набиралось много, зачастую на совершенно эфемерных основаниях».
Несмотря на то, что общество в Средневековье было ориентировано на мужчин, история знает и женщин, наделенных политической властью, отмечает Крис Уикхем. Они правили либо от лица детей после смерти мужа, либо как наследницы при отсутствии братьев (в основном в позднее Средневековье — и это был редкий случай). Тоже, в общем-то, известный факт.
 Знать и рыцари несли военную службу и хранили политическую верность сеньору, за это им жаловали владения — феоды или лены. Это был военный феодализм, так называемые вассально-ленные отношения.
Знать и рыцари несли военную службу и хранили политическую верность сеньору, за это им жаловали владения — феоды или лены. Это был военный феодализм, так называемые вассально-ленные отношения.
Обязательства, связанные с принятием земли в дар, а также понятие чести, неотделимое от понятия верности, — вот ключевые аспекты в данном вопросе. Клятвопреступником редко кто рискнул бы прослыть — слишком высоки ставки. Запятнавшему себя бесчестьем крайне трудно смыть позор, поэтому в политике Средневековье чрезвычайно многое зависело от того, чтобы не приблизиться к той грани, за которой можно опорочить себя окончательно, дойдя до точки невозврата.
«Трудно переоценить, насколько важно было сохранять репутацию человека честного и благородного в любой части Европы в любой период для представителя любого средневекового сословия, в том числе крестьянского, даже если другие зачастую считали, что у крестьян чести нет; в том числе и для женщин, даже если окружающие зачастую подразумевали под честью женщины честь ее мужской родни».
Убийство из мести было в порядке вещей (считалось, что честь убившего это не пятнает). А сила сама по себе была достаточно весомым аргументом — в том числе при судебных разбирательствах. Логика здесь замысловатая: если кто-то покусился на чью-то собственность дерзко и открыто, тем самым он заявил о серьезности своих намерений. Он готов к противостоянию — в том числе и судебному. Если же его противник не сумел защитить свою собственность в досудебном порядке — может, его права на нее не так уж неоспоримы?
Серьезно. Так и жили. И разве только тогда?