Учитесь плавать в стальных грозах
На этой неделе с книжными новинками опять не очень — изучаем интересное из старого
Адепт Бурдье разоблачает миф о кавказском менталитете; Люди осени побеждаются смехом; Делез и Гваттари призывают творить концепты; Евгений Головин потешается над объективной истиной; Эрнст Юнгер рассказывает страшные вещи. На этой неделе издательства тоже не радовали новинками, поэтому Иван Напреенко прошелся по книжным полкам и составил список любопытных старинок.
Евгений Головин. Приближение к Снежной Королеве. М.: Арктогея-центр, 2003
 Имя и наследие философа Евгения Всеволодовича Головина (как и, пожалуй, Гейдара Джахидовича Джемаля) крайне хочется выдрать из цепких рук интеллектуального омнивора Александра Гельевича Дугина, который все, что можно (не только фауну Южинского переулка), подгребает к своему синкретическому «традиционалистскому» проекту. Впрочем, сам Дугин гласно сожалеет, что Головин легкой и двусмысленной манерой письма мешает проявить «фундаментальные основания своей доктрины» — по крайней мере, в той форме, в которой хотелось бы Александру Гельевичу.
Имя и наследие философа Евгения Всеволодовича Головина (как и, пожалуй, Гейдара Джахидовича Джемаля) крайне хочется выдрать из цепких рук интеллектуального омнивора Александра Гельевича Дугина, который все, что можно (не только фауну Южинского переулка), подгребает к своему синкретическому «традиционалистскому» проекту. Впрочем, сам Дугин гласно сожалеет, что Головин легкой и двусмысленной манерой письма мешает проявить «фундаментальные основания своей доктрины» — по крайней мере, в той форме, в которой хотелось бы Александру Гельевичу.
Если допустить между тем, что это замешательство непосредственно указывает на систему взглядов Евгения Всеволодовича, то становится чуть понятнее, что это за взгляды (и чтение «Приближения» здесь может послужить верным учебником).
Блестящий эссеист Головин, после чтения которого в голове неизменно остается пьянящая смесь недоумения и чувства свободы, противится идеи всякой фундаментальной объективной истины, «хрустального гриба знания», альтернативой которым может служить лишь индивидуальное фантазматическое познание реальности. Стоит прислушаться к интерпретации ЕВГ философом Ильей Дмитриевым: для Головина этот невыносимый примордиальный импульс отождествляется с пронизанным иерархиями учением Генона, иудеохристианством и далее — с бюрократическими ритуалами «проклятого совдепа».
Что же противопоставляет этому многоликому, но единообразному в солдафонских замашках, говоря устами Дугина, «аполлоническому» логосу языческий алхимик, капитан «Пьяного корабля» Головин?
Мир подвижных метафор, не урегулированных единым символическим порядком. Царство текучей «женственной» стихии, смывающей четкие различения, в том числе и те, что позволяют установить, что же такое «в конечном итоге» послание Головина. Но пространство личной мифологии и индивидуации ЕВГ не свободны от различений как таковых; похоже, его принцип — поддерживать их во взвешенном, неразрешенном состоянии, пользоваться ими оперативно, «по ситуации», магически, не позволяя образовывать жесткие «мускулинные» констелляции.
«Учитесь плавать, учитесь водку пить из горла» — не стоит забывать как в полной версии звучат строчки песни группы ЦЕНТР на стихи ЕВГ.
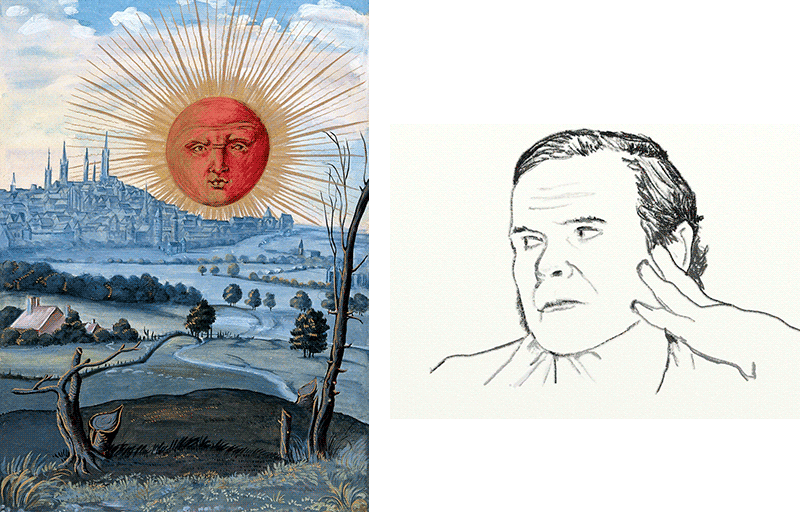 «Возвращаюсь к Даме-натуре, которая следует непосредственно за Матерью-природой. Вот что у Жерара де Нерваля сказано как раз о Даме-натуре: „Дама, за которой я следовал. Ее движения плавные и стремительные вибрировали переливчатой тафтой платья, в руках кружил высокий стебель белой розы. Она расплывалась в пространстве сада и мало-помалу травы и цветы превращались в узоры ее платья, а руки и силуэт тела отразились в контурах пурпурных облаков. Я потерял из вида прихотливость ее трансформации, она, казалось, растворилась в собственном величии. И затем я увидел выщербленную статую у старой стены — это была она“. Вот такое понимание Дамы-натуры. Понимание совершенно не логичное, более чем странное... Сразу после смерти искатель, шедший по влажному пути, встречается с веществом, абсолютно белого цвета, которое начинает оживлять его совершенно особой и непонятной жизнью. Из книг об алхимии мы знаем, что после черного цвета (nigredo) следует белый цвет. За белым цветом идут все цвета радуги. Но разные авторы меняют этот порядок. Любопытно, что в описаниях алхимического эксперимента мы никогда не встречаем радужного перелива цветов. Максимальный контраст — от черного к белому. Белому абсолютно мертвому. И от белого абсолютно мертвого, к белому абсолютно живому. Здесь находится то, что можно назвать женской субстанцией, женским космосом, но это не то, что женской субстанцией привыкли называть мы. Это не те женщины, которых мы видели.
«Возвращаюсь к Даме-натуре, которая следует непосредственно за Матерью-природой. Вот что у Жерара де Нерваля сказано как раз о Даме-натуре: „Дама, за которой я следовал. Ее движения плавные и стремительные вибрировали переливчатой тафтой платья, в руках кружил высокий стебель белой розы. Она расплывалась в пространстве сада и мало-помалу травы и цветы превращались в узоры ее платья, а руки и силуэт тела отразились в контурах пурпурных облаков. Я потерял из вида прихотливость ее трансформации, она, казалось, растворилась в собственном величии. И затем я увидел выщербленную статую у старой стены — это была она“. Вот такое понимание Дамы-натуры. Понимание совершенно не логичное, более чем странное... Сразу после смерти искатель, шедший по влажному пути, встречается с веществом, абсолютно белого цвета, которое начинает оживлять его совершенно особой и непонятной жизнью. Из книг об алхимии мы знаем, что после черного цвета (nigredo) следует белый цвет. За белым цветом идут все цвета радуги. Но разные авторы меняют этот порядок. Любопытно, что в описаниях алхимического эксперимента мы никогда не встречаем радужного перелива цветов. Максимальный контраст — от черного к белому. Белому абсолютно мертвому. И от белого абсолютно мертвого, к белому абсолютно живому. Здесь находится то, что можно назвать женской субстанцией, женским космосом, но это не то, что женской субстанцией привыкли называть мы. Это не те женщины, которых мы видели.
В этом смысле очень любопытен один фрагмент Рембо. Он труден, и я не призываю его понимать, тем более что я сам его не понимаю».
Рэй Брэдбери. Надвигается беда. М.: Эксмо, 2018. Перевод с английского Н. Григорьевой, В. Грушецкого
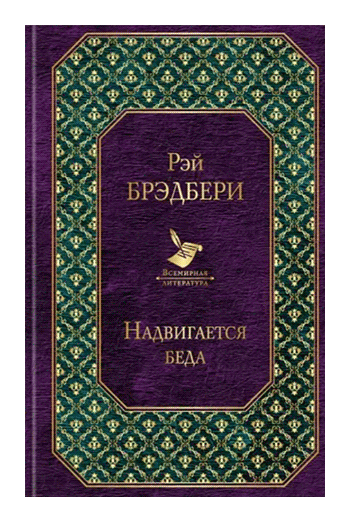 Брэдбери (писатель, чье упоминание в нулевых неизменно вызывало вопрос: как, он еще жив? — классики живут долго) любил вспоминать этот эпизод: в 1932 году 12-летний Рэй встретил волшебника из бродячего цирка. Некий мистер Электрико коснулся наэлектризованным посохом лба мальчика, так что у него встали волосы дыбом, и произнес: «Живи вечно!». Потрясенный Рэй нашел волшебника на следующий день, чтобы уточнить, что он имеет в виду. Мистер Электрико пояснил, что продлевает жизненные силы мальчика, поскольку видит в нем душу собственного молодого товарища, которой погиб на фронтах Первой мировой.
Брэдбери (писатель, чье упоминание в нулевых неизменно вызывало вопрос: как, он еще жив? — классики живут долго) любил вспоминать этот эпизод: в 1932 году 12-летний Рэй встретил волшебника из бродячего цирка. Некий мистер Электрико коснулся наэлектризованным посохом лба мальчика, так что у него встали волосы дыбом, и произнес: «Живи вечно!». Потрясенный Рэй нашел волшебника на следующий день, чтобы уточнить, что он имеет в виду. Мистер Электрико пояснил, что продлевает жизненные силы мальчика, поскольку видит в нем душу собственного молодого товарища, которой погиб на фронтах Первой мировой.
На юного Рэя, по собственному признанию, эта встреча произвела неизгладимое впечатление, и с того самого дня он стал каждый день писать — буквально, не прожил и суток без того, чтобы не написать хоть строчку. Да и было чему впечатлиться в этом двусмысленном пожелании вечной жизни «за того парня», которую Брэдбери тут же, инстинктивно, решает переприсвоить через аскетическую практику ежедневного производства собственных текстов.
Повесть (1962), чье шекспировское название у нас как только не переводили — «Надвигается беда», «И духов зла явилась рать...», «Что-то страшное грядет», «Жди дурного гостя» и и т. п., — написана сразу после «Вина из одуванчиков» (1957), книги, принесшей Брэдбери славу, и является ее неформальным сиквелом. Тема у полуавтобиографических произведений общая — прощание с детством, но если «Вино» светится летней ностальгией по уходящей свежести и невинности, то в «Надвигается беда» наступает макабрический октябрь и вопросы перехода инициатической границы между детством и «взрослостью» окрашены в мрачные тона.
Если «Вино» составлено из отдельных рассказов, то «Надвигается беда» — это цельный и давящий нарратив. В типичный американский городок является бродячий цирк, он же карнавал, и пара 13-летних друзей, мечтающих о том, как станут взрослыми, спешат его посетить. Демоническая природа карнавальных персонажей, т. н. Людей осени, выясняется довольно скоро: главный объект цирка — это карусель, которая исполняет сокровенные желания. Помыслы у желающих прокатиться примерно одни и те же: стать моложе или старше (хотя физические изменения не меняют ментального состояния), но цена за поездку — душа. В конце колоритнейших чудовищ удается победить — при помощи яростного хлебниковского смеха, — но никто из героев не выходит из битвы таким же, как в нее вошел.
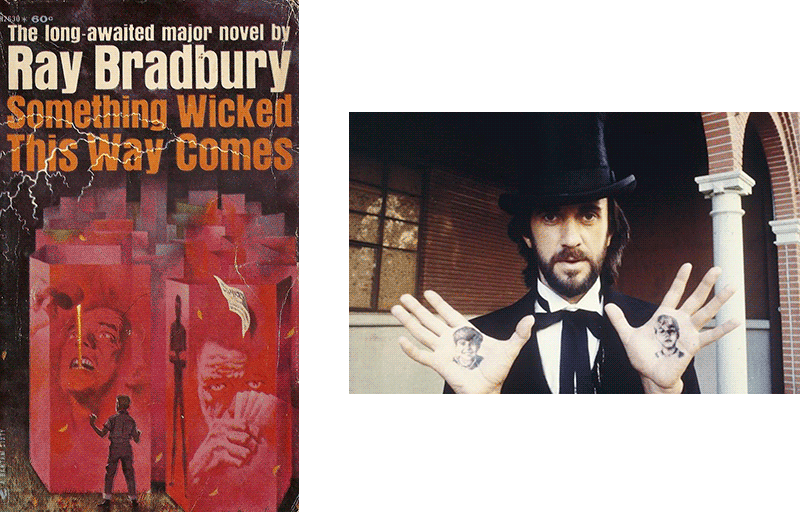
Обложка англоязычного издания и кадр из экранизации романа «Надвигается беда» (1983 год, режиссер Джек Клейтон)
Фото: Penguin/Walt Disney Productions
«Надвигается беда» — это не только блестяще ритмически выстроенное произведение, идеальное чтение, когда тебе 14, и объект для перечитывания в старшем возрасте, мощный источник хоррор-экстетики, вдохновлявший Нила Геймана и Стивена Кинга. Прежде всего — это сеанс автобиографического экзорцизма (мр. Электрико, кстати, присутствует в цирке) и демонстрация типично брэдбериевского умения тактично рассуждать о вопросах, в случае с которыми другие писатели дают петуха: стоит ли быть вечно молодым и что это вообще значит? что делать с неистребимыми страхами, в том числе страхом смерти? как обороть демонические сущности? и, наконец, кем окажется тот, кто последним добежит до семафора?
«Карнавал превратился в огромный темный камин. В разных уголках тлели угли настороженных взглядов его обитателей.
Все они тянулись к одному месту.
Там лежал под луной разрисованный мальчик по имени Дарк.
Там лежали поверженные драконы, разрушенные башни, сраженные чудовища мрачных, древних эр: птеродактили уткнулись в землю, как сбитые самолеты, страшные раки выброшены на берег отливом жизни. Изображения двигались, меняли Очертания, дрожали по мере того, как холодела маленькая плоть. Циклопий глаз на пупке подмигивал сам себе, шипастый трицератопс ослеп и впал в буйство, картинки, все вместе и каждая в отдельности, прижившиеся на теле большого м-ра Дарка, теперь ссохлись и стали напоминать микроскопическую вышивку, этакий расшитый платочек, наброшенный на костлявые плечи».
Эрнст Юнгер. В стальных грозах. СПб.: Владимир Даль, 2000. Перевод с немецкого Н. Гучинской, В. Ноткиной
 «В стальных грозах» дежурно принято противопоставлять «На Западном фронте без перемен»: дескать, с одной стороны про-милитаризм, чуть ли не глорификация шрапнели и гор трупов, а с другой — про-пацифизм, слезы безусых парней, которые под оной шрапнелью в ту самую гору вот-вот превратятся.
«В стальных грозах» дежурно принято противопоставлять «На Западном фронте без перемен»: дескать, с одной стороны про-милитаризм, чуть ли не глорификация шрапнели и гор трупов, а с другой — про-пацифизм, слезы безусых парней, которые под оной шрапнелью в ту самую гору вот-вот превратятся.
Но столь же дежурным — и, пожалуй, неразрешимым, фасцинирующим — будет противопоставление самого Эрнста Юнгера, фигуры энигматичной цельности и витальности, энтомолога, ценителя психоактивных веществ и философа, в день собственного 102-летия попивавшего любимое вино, закуривая любимым табаком — противопоставление, уместное, наверное, по отношению к слишком многих фигур (и к которым сами наверняка относимся).
«В стальных грозах» — это обработанные (многократно, с каждым переизданием) 14 дневниковых тетрадок, которые писатель вел в самых неподходящих для этого занятия условиях — в окопах Западного фронта. На фронт вчерашний гимназист (к началу войны Юнгеру было 19) приезжает, заряженный патриотическим духом, и тут же погружается в грозовую обстановку.
Стиль автора принято винить (хвалить) за холодную, лишенную пацифистского посыла отстраненность в описании самых мрачных реалий войны, с вкраплениями рассуждений о воинском духе и судьбе. Здесь, конечно, нетрудно углядеть выходы на уровень милитаристской экзальтации, но еще проще проглядеть динамику отношения к войне, которую переживает герой Юнгера.
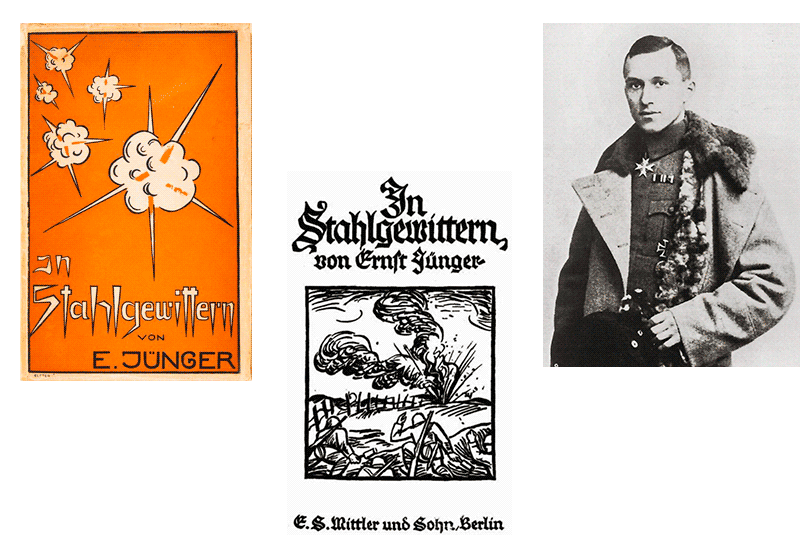
Обложки немецкоязычных изданий 20-х годов
Фото: Mittler und Sohn/Hannover Selbstverlag des Verfassers
Юнгер, судя по всему, «прирожденный солдат», лидер штурмовых отрядов, раненный не менее 14 раз, постепенно проникает в суть войны как духовного или мистического испытания. С его абсурдом, хаосом, индуцированным безумием каждый в конце концов остается наедине (по мере того как патриотически-национальный экстаз бледнеет и неизбежно улетучивается, как иприт). Выйти из этого испытания тем же, что ты вошел в него, нельзя. Но Юнгера с его отсутствием саможалости и культом работы (война — это работа) не интересуют ужасы и их причины. Это преображение скорее становится еще одной задачей, которая требует отстраненного самонаблюдения возникающих аффектов, требует взять ответственность за них лично на себя и, если повезет, поместить в сачок, словно бабочку.
«Великий миг настал. Вал огня прокатился по передним окопам. Мы пошли в наступление.
Со смешанным чувством, вызванным жаждой крови, яростью и опьянением, мы тяжело, но непреклонно шагали, надвигаясь на вражеские линии. Я шел вдали от роты, сопровождаемый Финке и одним новобранцем по имени Хааке. Правая рука сжимала рукоять пистолета, левая — бамбуковый стек. Я кипел бешеным гневом, охватившим меня и всех нас самым непостижимым образом. Желание умерщвлять, бывшее выше моих сил, окрыляло мои шаги. Ярость выдавливала из меня горькие слезы.
Чудовищная воля к уничтожению, тяжелым грузом лежавшая над полем брани, сгущалась в мозгу и погружала его в красный туман. Захлебываясь и заикаясь, мы выкрикивали друг другу отрывистые фразы, и безучастный зритель, наверно, подумал бы, что нас захлестнул переизбыток счастья».
Георгий Дерлугьян. Адепт Бурдье на Кавказе. Эскизы к биографии в миросистемной перспективе. М.: Территория будущего, 2010
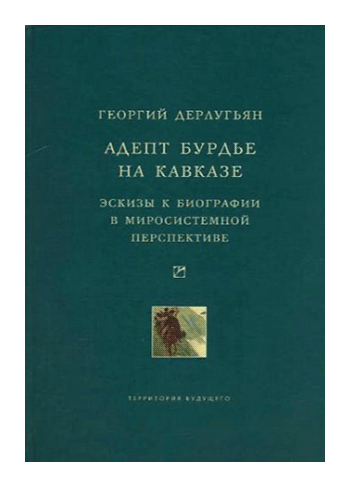 Скромное secret-admire в авторизованном переводе превращается в уверенное «адепт», и вот уже воображение рисует полумифическую картинку: лихой джигит с заговоренным кинжалом — возможно, той самой «социологией», которую сам Пьер Бурдье называл «боевым искусствои», — гарцует над пропастью на фоне белоснежных пятитысячников Кавказа с целью «порешать вопросики».
Скромное secret-admire в авторизованном переводе превращается в уверенное «адепт», и вот уже воображение рисует полумифическую картинку: лихой джигит с заговоренным кинжалом — возможно, той самой «социологией», которую сам Пьер Бурдье называл «боевым искусствои», — гарцует над пропастью на фоне белоснежных пятитысячников Кавказа с целью «порешать вопросики».
Джигит Дерлугьян, армянин из Краснодара, профессор Нью-Йоркского университета Абу-Даби и один из немногих заметных вне академических обочин последователей миросистемного анализа, последней глобальной социологической теории XX века им. Иммануэля Валлерстайна — так вот, Дерлугьян занят рисованием картин антимифических. В фокусе его удара — объяснение положения дел и их динамики в республиках Кавказа при развале СССР без обращения к магии менталитета и национального характера.
Вместо этого он берет из арсенала Бурдье «габитус», «культурный капитал» и «субпролетариат», из миросистемного анализа — макроооптические прицелы, а из жизни — в качестве иллюстрации рассуждениям — биографию кабардино-балкарского крестьянина Мусы Шанибова, обернувшегося сначала комсомольским работником, затем прокурором, преподавателем научного коммунизма Юрием Шанибовым. Шанибов упорно пытался реализовать интеллигентский габитус, но на на заре 1990-х неумолимо становится главой Конфедерации горских народов Кавказа, а в дни абхазской войны вступает в добровольческий отряд — тот же самый, где получал первый боевой опыт Шамиль Басаев.
Можно спорить о том, насколько широко понятный бурдьевистский инструментарий помогает Дерлугьяну обосновать троеборье основных сил (или классов), которые входят в перестройку, когда конец всего если не кажется неминуемым, но уже ионизирует воздух: номенклатура, национальная интеллигенция, субпролетариат (а куда делся весьма обширный пролетариат?). Одно ему точно удается — увязать цепочки многообразных конфликтов с общим кризисом советской модели догоняющей модернизации и предательство номенклатуры национальных интересов ради дальнейшей войны-диалога со странами ядра, но с позиций периферии.
 Георгий Дерлугьян
Георгий ДерлугьянВ общем, к миросистемной перспективе вопросов нет, да и вообще других книг, погружающих кавказский узел в рассол социоэкономического анализа, не так уж много, так что дискутировать о Дерлугьяне нужно и важно.
«Типичной ловушкой, пускавшей по замкнутому кругу множество попыток проанализировать общества советского типа, было их рассмотрение в качестве отдельной «системы социализма», в отрыве от остального мира. Это предполагало соотнесение с нормативными идеологическими стандартами того или иного рода. (...)
После 1914 г. чуть было не закончившееся системным коллапсом взаимоуничтожение европейских держав внезапно позволило обрести долю власти многим и самым различным ранее сдерживаемым социальным группам и движениям. Взрыв в самом ядре миросистемы стал предусловием для прокатившихся по всей миросистеме волн революций, восстаний, переворотов, партизанских войн и деколонизаций, достигших в течение последующих десятилетий самых отдаленных уголков земного шара. В октябре 1917 г. большевики, которые тогда были не более чем подпольной и эмигрантской партией радикальной интеллигенции и ведомых рабочих активистов, продемонстрировали всему остальному миру, как именно следует захватывать и удерживать государственную власть в периоды военных неудач и сумятицы в правящем аппарате. Оказавшись у руля, большевики решительнейшим образом перешли к осуществлению практических шагов, которые позволили им избежать участи парижских коммунаров. Победа была достигнута путем построения обширной, в первые годы изобретательной и идеологически вдохновляющей революционной диктатуры. По изобретательному определению Стивена Хэнсона, большевики сумели стать тем, что не смог бы представить и сам Макс Вебер, — харизматической бюрократией, отрицавшей не в теории, но на практике противоречие между понятиями утопии и планового развития. Диктаторский аппарат большевистского партийного государства был затем задействован для совершения следующего подвига: стремительного преобразования преимущественно аграрной и многонациональной страны в централизованную военно-индустриальную сверхдержаву. Индустриализация СССР приобрела откровенно военный характер в первую очередь по геополитическим причинам. Чтобы удержать власть и заставить с собой считаться в мировых делах, советское государство должно было создать мощный современный аппарат устрашения и принуждения».
Жиль Делез, Феликс Гваттари. Что такое философия? М.: Академический проект, 2009. Перевод с французского С. Зенкина
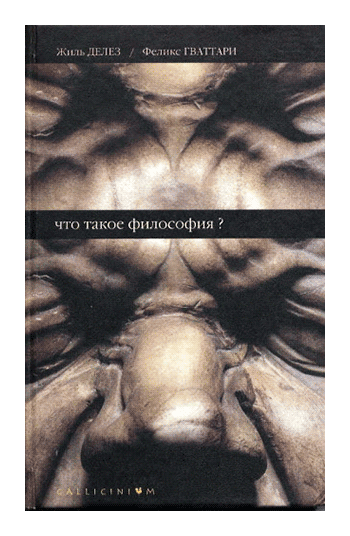 Тем, кто пытался «вплыть» в море Делеза и Гваттари со стороны «Анти-Эдипа» и «Тысячи плато» и потерпел крушение головного мозга где-то на первых сотнях страниц, нетолстая книга «Что такое философия?» может послужить восстановлением читательской самоуверенности, благо фамилию напарника Делез (если не врут) поставил на рукописи лишь в качестве дружеского жеста.
Тем, кто пытался «вплыть» в море Делеза и Гваттари со стороны «Анти-Эдипа» и «Тысячи плато» и потерпел крушение головного мозга где-то на первых сотнях страниц, нетолстая книга «Что такое философия?» может послужить восстановлением читательской самоуверенности, благо фамилию напарника Делез (если не врут) поставил на рукописи лишь в качестве дружеского жеста.
Если первые упомянутые работы написаны не столько для конвенциального чтения, сколько для восприятия иными, возможно, экстрасенсорными способами (и отлично с их помощью усваиваются), то «Что такое философия?» вполне можно читать обыкновенно (что не помешало включить работу в число мишеней в ходе «научных войн» физиков Алана Сокала и Жана Брикмона против «бредятины французского структурализма»).
Между тем автор или соавторы достаточно ясно (по своим меркам) излагают, как нетрудно догадаться, ответ на традиционный философский вопрос: «Что такое философия?». В их интерпретации — это довольно просто: «Философия — искусство формировать, изобретать, изготавливать концепты... Творить все новые и новые концепты — таков предмет философии». Тогда основной вопрос иной: что значит концепт? В отличие от, например, религии, которая работает с трансцедентными и вневременными истинами, концепт принадлежит плану имманентности и пространству. Концепт бестелесен, хотя он воплощается в телах; концепт есть событие, а не сущность, вещь или логическая пропозиция. Философия обязана создавать концепты, чтобы отделять себя от «врагов»; она становится собой только в постоянном кризисе и самокритике. Здесь имманентность предстает срезом хаоса, который философия упорядочивает с помощью концептов; свои собственные способы обращения с хаосом предлагают наука и искусство, которые авторы также не оставляют без внимания.
Зачем эту бодрящую, заряженную игрой и свободой книгу читать сегодня? Ответ для адептов тайм-менеджмента и личной эффективности однозначен: незачем. Все остальные могут понять, чьим мыслительном углем топят основные философские направления последних десятилетий — от спекулятивных реалистов до акселерационистов и иже с ними.
 Жиль Делез и Феликс Гваттари
Жиль Делез и Феликс Гваттари«Как утверждают, именно греки окончательно зафиксировали смерть Мудреца и заменили его философами, друзьями мудрости, которые ищут ее, но формально ею не обладают.
Однако между философом и мудрецом различие не просто в степени, словно по некоторой шкале: скорее дело в том, что древний восточный мудрец мыслил Фигурами, философ же изобрел Концепты и начал мыслить ими. Вся мудрость сильно изменилась. Поэтому так трудно выяснить, что же значит „друг“, даже у греков и особенно у них. Быть может, словом „друг“ обозначается некая интимность мастерства, как бы любовь мастера к материалу и потенциальная зависимость от него, is как у столяра с деревом, — хороший столяр потенциально зависит от дерева, значит, он друг дерева? Это важный вопрос, поскольку в философии под „другом“ понимается уже не внешний персонаж, пример или же эмпирическое обстоятельство, а нечто внутренне присутствующее в мысли, условие самой ее возможности, живая категория, элемент трансцендентального опыта. Благодаря философии греки решительно изменили положение друга, который оказался соотнесен уже не с иным человеком, а с неким Существом, Объектностью, Целостностью. Он друг. Платону, но еще более друг мудрости, истине или концепту, он Филалет и Теофил... Философ разбирается в концептах и даже при их нехватке знает, какие из них нежизнеспособны, произвольны или неконсистентны, не способны продержаться и минуты, а какие, напротив, сделаны добротно и даже несут в себе память о тревогах и опасностях творчества».