Тяни за свой корень: книги недели
Что спрашивать в книжных
Мерлин Шелдрейк. Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее. М.: АСТ, 2021. Перевод с английского Ольги Ольховской. Содержание
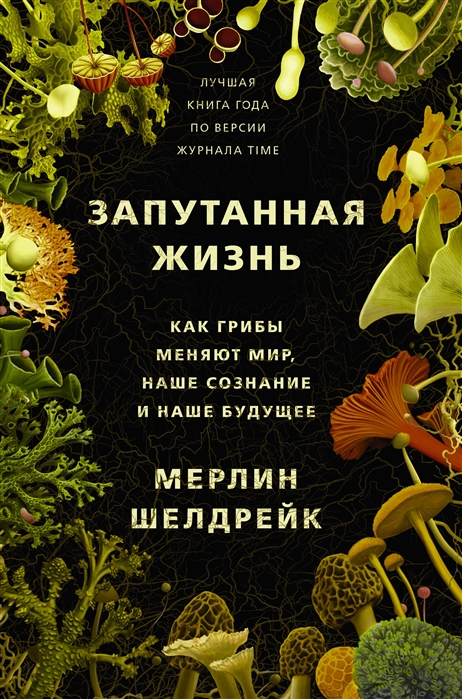 Грибы атакуют: книг о них выходит все больше. Виной тому полузапретный психоделический ореол, высокая пригодность этих организмов для метафор новой гуманитаристики, но в первую очередь, конечно, дело в том, что Юггот становится ближе с каждым днем. Большинство из оных изданий — сущая макулатура, и работа британского миколога Мерлина Шелдрейка здесь — приметное исключение.
Грибы атакуют: книг о них выходит все больше. Виной тому полузапретный психоделический ореол, высокая пригодность этих организмов для метафор новой гуманитаристики, но в первую очередь, конечно, дело в том, что Юггот становится ближе с каждым днем. Большинство из оных изданий — сущая макулатура, и работа британского миколога Мерлина Шелдрейка здесь — приметное исключение.
Во-первых, она неожиданно ярко для своего жанра написана и, что не менее удивительно, неплохо переведена. Автор пишет страстно, образно; чувствуется, что эпиграф «с благодарностью грибам, которые научили меня всему, что я знаю» — не пустые слова. Во-вторых, это не просто компендиум занятных фактов вроде того, что мицелий — самый мощный естественный фильтр. Грибы для Шелдрейка — повод рассказать об имманентной «запутанности» живого в квантовом смысле, которая подразумевает парадоксальную связь и взаимозависимость чрезвычайно удаленных друг от друга объектов. Грибы, вовсе не сводящиеся к шляпкам, ножкам и иным частям плодовых тел, опутывают Землю «вселесной сетью», творят новые экологические системы, управляют насекомыми и художниками и в конечном счете «дают ключ к познанию планеты», «того, как мы мыслим, чувствуем и ведем себя». В общем, эта неглупая и увлекающая книга однозначно выходит из ряда брошюрок ушлых торговцев домодельными БАДами и рядовых опусов научных журналистов.
«Я тихонько потянул за мой корень и почувствовал, как шевельнулась земля».
Все в прошлом: теория и практика публичной истории М.: Новое издательство, 2021. Под общей редакцией А. Завадского, В. Дубиной. Содержание
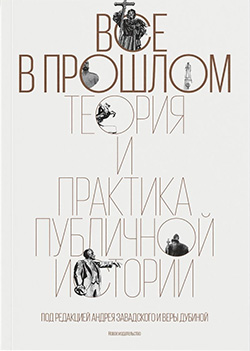 Публичная история исследует, как прошлое присутствует и действует в настоящем. Возникнув полвека назад в США, дисциплина распространилась по мировым университетам, но в России по общественно-политическим причинам все еще представлена скромно. В Шанинке, ректор которой Сергей Зуев сегодня переживает жестокое преследование со стороны властей, магистерская программа по публичной истории открылась девять лет назад. Вера Дубина, один из ее создателей, и Андрей Завадский, выпускник второго набора, выступили редакторами этой книги.
Публичная история исследует, как прошлое присутствует и действует в настоящем. Возникнув полвека назад в США, дисциплина распространилась по мировым университетам, но в России по общественно-политическим причинам все еще представлена скромно. В Шанинке, ректор которой Сергей Зуев сегодня переживает жестокое преследование со стороны властей, магистерская программа по публичной истории открылась девять лет назад. Вера Дубина, один из ее создателей, и Андрей Завадский, выпускник второго набора, выступили редакторами этой книги.
Амбиция издания — стать первым в России справочным пособием, к которому может обратиться каждый, кто интересуется жизнью минувшего в социальной ткани дня сегодняшнего. За отсутствием подобных изданий амбицию, по всей видимости, следует считать удовлетворенной. По сути, мы имеем дело со сборником статей, многие авторы которых связаны с упомянутой шанинской программой. Тематика вольно размечает карту исследовательских направлений внутри дисциплины и покрывает широкий диапазон от вопросов репрезентации прошлого в видеоиграх (Федор Панфилов) до литературы о попаданцах (Мария Галина, Илья Кукулин), например. Статьи собраны в пять разделов, каждый из которых предвосхищает теоретическое введение в проблемное поле — будь то экологическая история или отношения власти и прошлого.
Книга пригодится не только всем, кто погружен в тему, но и старшеклассникам и бакалаврам, подумывающим, где б найти сугубой пищи для ума.
«Более культурно мысль министра культуры ранее выразил <...> журналист Виктор Хамраев: „Наверное, ничего страшного, если [результатов расследования о подвиге 28 панфиловцев] „никто не знал“. Я с детства привык считать их героями, и мне не хочется думать по-другому“».
Шанкар Ведантам, Билл Меслер. Иллюзия правды. Почему наш мозг стремится обмануть себя и других? М.: Индивидуум, 2022. Перевод с английского Д. Виноградова. Содержание
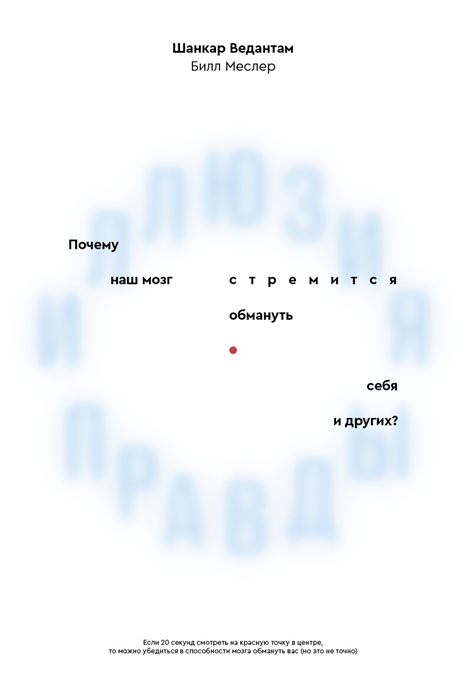 Два научных журналиста из США отталкиваются от нехитрой истины: в этом мире правда мало кому нужна — если говорить о соответствии строгим требованиям естественно-научной рациональности. Потому для тех, кто, подобно авторам, считает себя служителями логики и разума, вокруг простерлась юдоль скорби. Каждый второй готов костьми лечь за несуразные убеждения, и если не отказывается вакцинироваться, то по меньшей мере не спешит переходить дорогу после черной кошки. Более того, если покопаться, оные служители сами ничуть не лучше и тоже верят во всякую чушь («чушь»).
Два научных журналиста из США отталкиваются от нехитрой истины: в этом мире правда мало кому нужна — если говорить о соответствии строгим требованиям естественно-научной рациональности. Потому для тех, кто, подобно авторам, считает себя служителями логики и разума, вокруг простерлась юдоль скорби. Каждый второй готов костьми лечь за несуразные убеждения, и если не отказывается вакцинироваться, то по меньшей мере не спешит переходить дорогу после черной кошки. Более того, если покопаться, оные служители сами ничуть не лучше и тоже верят во всякую чушь («чушь»).
Обнаружив сей факт, Ведантам и Меслер не впадают в уныние, но предлагают принять, что любая модель — это карикатура на «реальность», и задаться иным вопросом: почему мозг и зачем люди занимаются обманом и самообманом? Ответ поразителен: дело не в глупости, им это выгодно! Авторы подробно разбирают, как именно в жизни пригождаются такие проявления неразумия как гражданские и религиозные ритуалы, и реабилитируют даже веру в рекламу. Большой и занимательный фрагмент посвящен т. н. Церкви Любви — грандиозной афере, в рамках которой мошенники в конце 1980-х выманили у доверчивых одиноких американцев миллионы, но удостоились во многих случаях не проклятий, а неиллюзорной признательности за возможность пережить подлинные чувства.
Предприятие, затеянное авторами, несколько комично в силу сходства с вламыванием в открытую дверь, но не лишено и разумных наблюдений вроде того, что бессмысленно спорить с убеждениями, имеющими эмоциональную ценность, при помощи пускай даже трижды истинных научных фактов.
«Предметы могут казаться ближе в зависимости от того, насколько сильно мы хотим их заполучить. В одном эксперименте половину участников накормили солеными крендельками, в то время как остальным дали напиться воды. Затем их всех попросили оценить расстояние до бутылки с водой, которая находилась в нескольких футах от них. Тем, кто отведал крендельков и хотел пить, показалось, что вода ближе, чем оценила контрольная группа».
Валерий Вотрин. Составитель бестиариев. СПб.: Яромир Хладик, 2021. Содержание
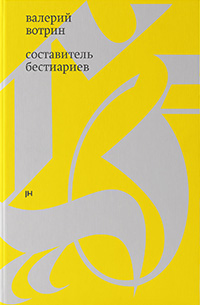
Про Валерия Вотрина — писателя, переводчика и редактора-составителя (в «Водолее» при нем вышли, например, «Щенки» Павла Зальцмана) — давно не было слышно, но в начале десятых его квазибиблейский роман «Последний магог» и лингвистическая антиутопия «Логопед» были (относительно) на слуху. Новый сборник рассказов объединяет на самом деле рассказы не новые — они написаны в 2009–2018 годах.
Первые тексты Вотрина, о которых автор вспоминает с неохотой, причисляют к «твердой фантастике». В дальнейшем же его проза проходила по ведомству толстых журналов, причем сам Вотрин некоторое время назад числил себя продолжателем модернистских традиций Ремизова и Кржижановского. Ничуть не вступая в противоречие со сказанным, «Составитель бестиариев» хочется причислить к русскоязычным аналогам «новых странных». Рассказы Вотрина — это вполне сюжетные (т. е. поддающиеся пересказу) сказки с вывертом, лишенные душевного эксгибиционизма и вообще чрезмерного накала страстей. Сам автор называет их «сомнамбулическим реализмом»: герои и вправду много и охотно бултыхаются между явью и сном, вроде бальзамированного Владимира Ильича в рассказе «Ленин в Тюмени»; обе «реальности», впрочем, разделены весьма условно.
В этих уютно-тревожненьких текстах, где финал часто смазан (что не умаляет их способности развлечь читателя), на агентности символических структур сделан особый акцент. Те же сны, заговоры, колыбельные, речевые обороты властно вклиниваются в ход событий, отчего многие критики говорят о том, что знаки у Вотрина оживают. Но, позвольте, разве «в обычной» жизни знаки хоть сколько-нибудь мертвы?
«Весеннее половодье выгоняет ее наружу, и в этот период выхухоль исключительно опасна — нападает на домашний скот, пришедший на водопой, может напасть на человека».
Лора Олсон, Светлана Адоньева. Традиция, трансгрессия, компромисс. Миры русской деревенской женщины. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Содержание. Фрагмент
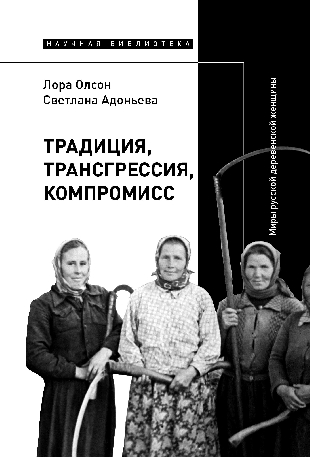 За пять лет, которые прошли с публикации первого издания, увидело свет немало публикаций, способствующих забыванию того, как выглядит добротная феминистская антропология в русле российской исследовательской традиции. Потому-то и стоит обратить внимание на переиздание.
За пять лет, которые прошли с публикации первого издания, увидело свет немало публикаций, способствующих забыванию того, как выглядит добротная феминистская антропология в русле российской исследовательской традиции. Потому-то и стоит обратить внимание на переиздание.
Светлана Адоньева и Лора Олсон констатируют: женщин русской деревни принято считать атлантами, на которых держится традиционная культура. Таков внешний образ и предписанная роль. Но что по этому поводу думают, чувствуют и как себя ведут сами пожилые россиянки? Чтобы найти ответ, авторы обращаются к материалам своих фольклорных экспедиций разных лет, фокусируясь на беседах с представительницами трех поколений: дореволюционного, доколлективизационного, пред- и послевоенного.
Самое интересное в книге для неспециалиста (впрочем, и для человека антропологии не чуждого) — это прямая речь информантов и описание того, как строилось — или ломалось — общение с ними исследовательниц. Можно найти множество колоритных соображений вроде анализа эмансипирующего потенциала мыльных опер и рассказа о том, как в современной деревне бытует магия.
«Песня исполнялась от лица „тещи“, исполняют ее взрослые мужчины и женщины хором, водя хоровод вокруг горящих бочек. Девушек на это действо не допускали, а парни, видимо, присутствовали. В песне поется, как теща ублажает зятя медом, пирогами и сексом. Расшифровав эту запись, мы стали искать другие варианты этой шокирующей своей тематикой ритуальной песни».