Циничные истории: книги недели
Что спрашивать в книжных
Хелен Плакроуз, Джеймс Линдси. Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого. М.: Individuum, 2021. Перевод с английского Д. Виноградова. Содержание
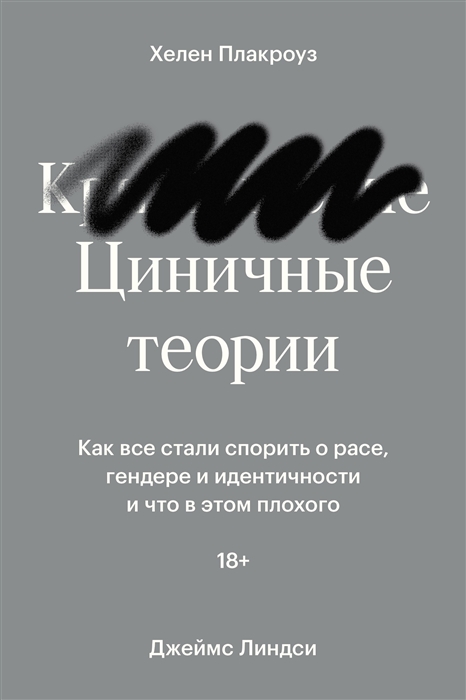 Еще до выхода в свет эта книга произвела в рунете скандал: некоторые блогеры были возмущены, что в руки местных фашистов, врагов социальной справедливости, а также неокрепших умом масс вот-вот угодит чудо-оружие против новой этики и связанных с ней прогрессивных течений мысли. Звучали осуждения издателей за безответственность и даже беспринципность — конечно, безосновательные.
Еще до выхода в свет эта книга произвела в рунете скандал: некоторые блогеры были возмущены, что в руки местных фашистов, врагов социальной справедливости, а также неокрепших умом масс вот-вот угодит чудо-оружие против новой этики и связанных с ней прогрессивных течений мысли. Звучали осуждения издателей за безответственность и даже беспринципность — конечно, безосновательные.
О чем же речь? Расскажу чуть шире, чем обычно происходит в этих обзорах. «Циничные теории» — работа литературоведа Хелен Плакроуз и математика Джеймса Линдси, которые прославились скандальным «Делом об исследовании обид» (grievance studies). Втроем с еще одним американцем, философом Питером Богоссианом, они разослали заведомо бредовые статьи в ряд академических изданий, специализирующихся на феминистских, постоклониальных, квир- и некоторых других исследовательских направлениях. Несколько материалов прошли процедуру рецензирования и даже были опубликованы, в том числе текст о том, как анальная пенетрация помогает снижать трансфобию у мужчин, и первая глава «Майн кампф», переписанная в фем-стилистике.
Книга «Циничные теории» с методологической и этической точки зрения вызывает куда меньше вопросов, чем упомянутая афера — как, впрочем, и меньше веселья. Авторы ставят целью показать устройство и генезис американского академического активизма, или активистской науки, — от французского постструктурализма до наших дней, когда теоретические положения радикализировались, выплеснулись за пределы кампусов и, согласно авторам же, приносят больше вреда, чем пользы, в том числе для социальной справедливости. Удивительное дело, Плакроуз и Линдси вовсе не фанаты второй поправки и обозначают свою позицию как леволиберальную — они выступают за политическую демократию, против рабства, патриархата, колониализма, фашизма и прочих форм дискриминации.
К счастью или сожалению, работа Линдси и Плакроуз на поверку не такая скандальная, как хотелось бы. Во-первых, анализ концептуальных предпосылок СЖВ-науки достаточно схематичен и неполон. Во-вторых, их собственная позиция несколько наивна — по меньшей мере не проблематизируется, как вообще могут соотноситься наука и ценности. В-третьих, в России, где интеллектуальная гегемония складывается иным, чем в США, образом, фон проблем довольно специфичен и потому опасения исследователей действительно могут звучать в унисон с рассказами про костюм Путина и опасностях гей-пропаганды (особенно если книжку не открывать, а открывать ее надо).
«Циничные теории», безусловно, за дело критикуют как переугоревших социальных конструктивистов, с нелепой радикальностью отрицающих роль биологических тел в производстве смыслов, так и кристаллизовавшихся в своей праведности сторонников политики идентичности, у которых культура отмены намертво цементирует будущее человека с его прошлым — кстати, совершенно так же российские власти цементируют историю, которую «нельзя переписывать».
Однако главная, кажется, проблема этой книги в том, что она вряд ли сможет кого-нибудь в чем-нибудь переубедить. С другой стороны, «Циничные теории» скорее подходят на роль манифеста, чем глубокого теоретического исследования. И хотя с задачами манифеста книга в целом справляется, преодолеть манифестом кризис гуманитарного знания возможно едва ли.
«Теория малоизвестна, и большинство людей никогда не сталкиваются с ней напрямую. Однако многие из нас находятся под ее влиянием, и никто от нее не защищен. Британский пенсионер с инвалидностью Брайан Лич, подрабатывающий упаковщиком в супермаркете Asda, был уволен за то, что поделился на Facebook комедийным скетчем Билли Коннолли, который один из его коллег счел исламофобским. Постколониальная Теория в действии».
Марк Юргенсмейер. «Ужас мой пошлю пред тобою». Религиозное насилие в глобальном масштабе. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Перевод с английского А. Зыгмонта. Содержание
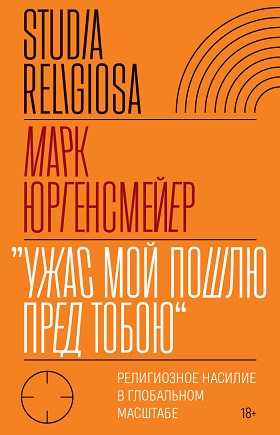 Американский социолог и религиовед несколько лет ездил по неспокойным точкам планеты и много общался с людьми, которые не щадят ни своего, ни чужого живота ради скорейшего наступления Царства Божьего на земле. Так возникло захватывающее исследование того, как связаны религия и насилие, которое перевел российский коллега Юргенсмейера, ведущий телеграм-канала ровно по этой теме.
Американский социолог и религиовед несколько лет ездил по неспокойным точкам планеты и много общался с людьми, которые не щадят ни своего, ни чужого живота ради скорейшего наступления Царства Божьего на земле. Так возникло захватывающее исследование того, как связаны религия и насилие, которое перевел российский коллега Юргенсмейера, ведущий телеграм-канала ровно по этой теме.
Как организована сцепка между двумя феноменами? По Юргенсмейеру, здесь работает зеркальный механизм «космической войны»: брань духовная, лежащая в основе любой религиозной картины — будь то христианства, ислама или сикхизма, — может иметь своим отражением акт «войны» в нашей юдоли скорби.
В первой части книги автор разбирает логику террористических атак как этнограф, стремясь без всякого морального осуждения представить картину так, как из своей внутренней перспективы видит ее фанатик. Рассказы о новом крестоносце Андерсе Брейвике, борце с абортами Марке Брейе, халифе запрещенной в России организации ИГИЛ Абу Бакре Аль-Багдади и других операторах ужаса — это замечательные и страшные страницы, которые интересно читать, даже если вы далеки от религиоведения.
Во второй части Юргенсмейер препарирует полученный материал, создавая стройную аналитическую конструкцию. Несущими элементами в ней, помимо упомянутого концепта «космической войны», выступают идеи насилия как перформанса и террора как кровавого способа вернуть власть религиозному мировоззрению.
Мир после этой книги уютнее не становится, но вот чуточку понятнее — это точно.
«Один монах, бывший участником жестоких антиправительственных выступлений, сказал мне, что во „времена дуккхи” — то есть в эпоху страдания, каковой буддисты считают всю известную человеческую историю, — насилие неизбежно. В это время, сказал он, насилие естественным образом порождает насилие. Поэтому политикам, которых считают безжалостными врагами религии, следует ожидать кармического возмездия в виде кровопролития».
Пушкин и финансы. Сборник статей. Составитель А. Белых. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021. Содержание
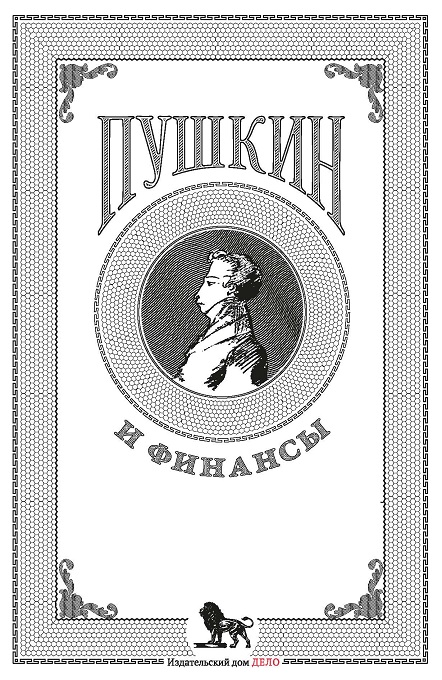 В мире пушкиноведения существуют достаточно подробные карты, но даже на них есть фрагменты с мелким масштабом. К ним Андрей Белых относит экономические события в жизни Пушкина. Чтобы заполнить белые пятна, доктор экономических наук собрал самые значимые исследования по теме из уже опубликованных и дополнил их свежими работами. Внимание к финансовой подоплеке литературного быта снова в моде, вспомним недавнюю книгу Джиллиан Портер «Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I». «Пушкин и финансы» работают с похожей темой, но несколько более внятным и традиционным образом.
В мире пушкиноведения существуют достаточно подробные карты, но даже на них есть фрагменты с мелким масштабом. К ним Андрей Белых относит экономические события в жизни Пушкина. Чтобы заполнить белые пятна, доктор экономических наук собрал самые значимые исследования по теме из уже опубликованных и дополнил их свежими работами. Внимание к финансовой подоплеке литературного быта снова в моде, вспомним недавнюю книгу Джиллиан Портер «Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I». «Пушкин и финансы» работают с похожей темой, но несколько более внятным и традиционным образом.
Собственно, в открывающей издание работе редактор-составитель выделяет пять экономических ипостасей: чиновник, литератор и издатель, игрок, помещик и горожанин-семьянин — и разбирает, как Александр Сергеевич сводил дебет с кредитом в каждой из этих ролей. Резюмируя: в литературе зарабатывал прилично, слишком много проигрывал в карты, немало тратил на семью и в целом плохо уходил в глубокий минус, что, впрочем, для дворянина его времени типично.
Деталь: на момент смерти у Пушкина набралось 95 596 рублей долга. Для понимания, семья его платила за квартиру 358 рублей в месяц — т. е. речь о задолженности на 22 года (Акакий Акакиевич между тем примерно в то же время и вовсе зарабатывал 400 рублей в год).
Одна из самых любопытных частей книги — «Пушкин и мужики» (1928), написанная крупнейшим пушкинистом начала XX века Павлом Щеголевым. Автор исследовал отношения поэта со своими крепостными в комплексе; интересно и то, что по нынешним временам некоторые эпизоды смотрятся скандальнее, чем в разгар вполне красного литературоведения.
«Значит, еще раз: „червонец за строчку” — это бумажный червонец, или десять рублей ассигнациями».
Томас Эльзессер, Мальте Хагенер. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб.: Сеанс, 2021. Перевод с английского С. Афонина, И. Кушнаревой, В. Лукина и др. Содержание
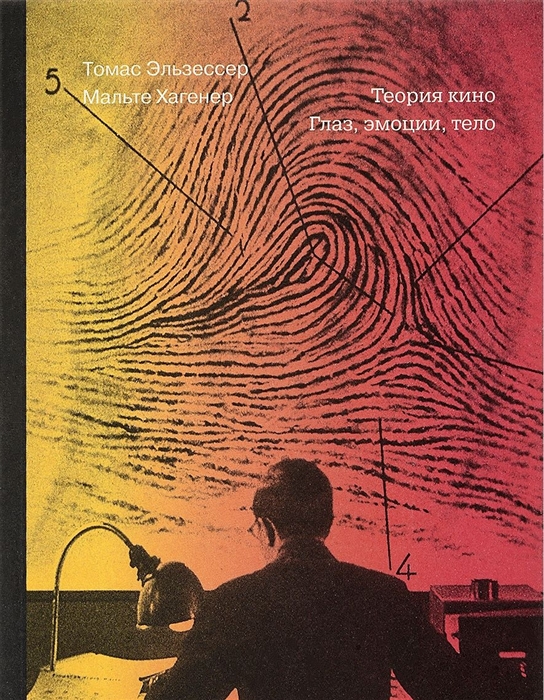 Если спросят, что почитать, чтобы разобраться в теории кино, то можно смело советовать эту книгу; первое издание вышло несколько лет назад и с тех пор, конечно, разошлось.
Если спросят, что почитать, чтобы разобраться в теории кино, то можно смело советовать эту книгу; первое издание вышло несколько лет назад и с тех пор, конечно, разошлось.
Исследователи Томас Эльзессер и Мальте Хагенер разбирают историю размышлений о кино, задаваясь в свою очередь вопросом, в каких отношениях между собой находятся фильм и тело зрителя, непосредственно переживаемые им эмоции. Структурируют материал ключевые метафоры, которые плавно сменяют друг друга: кино как окно или рамка, кино как дверь, кино как зеркало и др. Венчает все глава о цифровом кино, которое производит «цифровое зрительское тело» — гибридное, смешанное с объектами и т. п.
Телесно-ориентированный взгляд немецких теоретиков радикально иной, чем обычно практикуют киноведы и критики: в центре внимания находится зрительский опыт, а не актерские амплуа, продюсерские интриги или, скажем, бюджеты. Но примеры из «Корпорации монстров», «Чужого», картин Дзиги Вертова, а также Луман и Жижек в качестве поставщиков концептуальных запчастей представлены в избытке.
«Делая видимыми проектор и пленку в открывающей сцене „Персоны”, Ингмар Бергман обращает наше внимание на то, что мы сейчас увидим фильм — технический артефакт, который не стоит путать с реальностью. Более того, спроецированный на полупрозрачную поверхность крупный план женского лица, к которому пытается прикоснуться мальчик, изображает архетипическую функцию кино, а именно служить зеркалом».
Александр Бердичевский, Александр Пиперски. Три склянки пополудни и другие задачи по лингвистике. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. Содержание
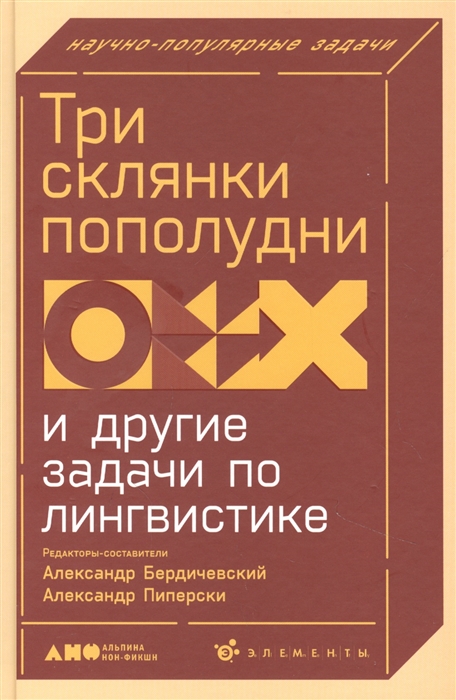 В задачах по лингвистике, которые собраны в этом издании, есть изящество фильмов, снятых в одной комнате, или упражнений с собственным весом. Чтобы такие задачи решить, нужен минимум: достаточно знать родной язык, стройно мыслить, ну еще листок с ручкой в придачу — все иные необходимые сведения (о японском языке, германских рунах или морской системе измерения времени с помощью склянок) сформулированы в условиях задачи.
В задачах по лингвистике, которые собраны в этом издании, есть изящество фильмов, снятых в одной комнате, или упражнений с собственным весом. Чтобы такие задачи решить, нужен минимум: достаточно знать родной язык, стройно мыслить, ну еще листок с ручкой в придачу — все иные необходимые сведения (о японском языке, германских рунах или морской системе измерения времени с помощью склянок) сформулированы в условиях задачи.
Кому нужны такие развлечения? Помимо молодых людей, обдумывающих житье, и, собственно, лингвистов, это классный инструмент, чтобы ощутить специфическую щекотку на поверхности мозга — от рефлексии над базовым человеческим интерфейсом реальности, которым, собственно, язык и является.
Книга не сводится к сухому задачнику, по совместительству она является сборником научно-популярных статей (один из соавторов рекомендовал «Горькому» пять изданий, которые помогут влюбиться в лингвистику). Головоломки сортированы по разделам с введениями — звуки и буквы, синтаксис, время и пространство и т. п., каждую задачу сопровождают подсказки, решение и послесловие, которое раскрывает интересный языковой факт, легший в основу задачи; кое-где есть ответы на вопросы читателей. Так что помимо церебральной разминки «Три склянки...» могут прояснить логику белорусской орфографии, артиклей в древнерусском и странной организации частей речи в индейском языке стрейтс.
«По такой же схеме в начале XX в. переписывался со своими корреспондентами В. И. Ульянов. Так, в переписке с петербургским „Союзом борьбы за освобождение рабочего класса” <...> было установлено стихотворение Некрасова „Маша”. <...> Поскольку выбор стихотворных ключей у революционеров разнообразием не отличался и состоял преимущественно из произведений гимназической программы, то случаи расшифровки перехваченных сообщений случались неоднократно».