Ценности семейства Толстых: шесть книг недели
Главные книжные новинки по версии редакции «Горького»
Эдвард Бэнфилд. Моральные основы отсталого общества. М.: Новое издательство, 2019. Перевод с английского Д. Карельского
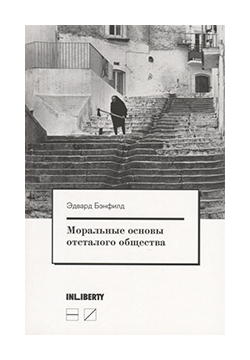 В 1954 году в идиллический на первый взгляд, но депрессивный по существу итальянский городок Кьяромонте прибыл американский политолог Эдвард Бэнфилд. При помощи жены-итальянки он девять месяцев исследовал местных жителей с целью ответить на вопрос, почему в Кьяромонте все так плохо.
В 1954 году в идиллический на первый взгляд, но депрессивный по существу итальянский городок Кьяромонте прибыл американский политолог Эдвард Бэнфилд. При помощи жены-итальянки он девять месяцев исследовал местных жителей с целью ответить на вопрос, почему в Кьяромонте все так плохо.
В итоге возник классический труд, в котором патологическая неспособность кьяромонтанцев к объединению ради общего блага объясняется через ценности: они бедны и несчастны потому, что им присущ «аморальный фамилизм» — стремление во всех обстоятельствах ориентироваться на выгоды себя и своей семьи.
Сейчас анализ Бэнфилда, который путал причину (бедность) со следствием (фамилистский этос), морально устарел. Однако описание общества, где никто никому не верит и занят сугубо выживанием, в постсоветских реалиях читается до боли узнаваемо.
«В обществе, состоящем из аморальных фамилистов, никто не станет действовать в интересах группы или сообщества, если не видит в этом пользы лично для себя. Другими словами, только надежда на скорую материальную выгоду может заставить члена такого общества заинтересоваться общественными делами. С этим принципом прекрасно согласуется полное отсутствие местных гражданских объединений, организованной благотворительности и лидеров, берущих на себя инициативу в служении общественному благу.
Учитель, принадлежащий к одной из самых видных семей города, объясняет:
„Я всегда сторонился вопросов общественных и тем более политических. По-моему, политические партии не отличаются одна от другой, а те, кто вступает в партию — не важно, Коммунистическую, Христианско-демократическую или какую-то еще, — думают только о собственном достатке и благополучии. Да и кроме того, вступив в одну из партий, ты обязательно испортишь отношения с людьми, которые состоят в другой”».
Кэролин Ларрингтон. Скандинавские мифы: от Тора и Локи до Толкина и «Игры престолов». М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. Перевод с английского О. Чумичевой
 Оксфордский профессор английской литературы популярно пересказывает мифы и саги Северной Европы, опираясь на археологические находки и письменные источники — от языческих до христианских. Нил Гейман недавно делал то же самое в книге «Скандинавские боги», но у двух авторов довольно разный, хотя и взаимодополняющий подход к материалу, который по-своему формировал цивилизацию Запада.
Оксфордский профессор английской литературы популярно пересказывает мифы и саги Северной Европы, опираясь на археологические находки и письменные источники — от языческих до христианских. Нил Гейман недавно делал то же самое в книге «Скандинавские боги», но у двух авторов довольно разный, хотя и взаимодополняющий подход к материалу, который по-своему формировал цивилизацию Запада.
Изложение Геймана фокусируется на самих сюжетах, нагнетая и подчеркивая драматический эффект; Ларрингтон более академична (но поклонникам «Литпамятников» тут ловить, пожалуй, нечего) и вписывает в божественную трагедию людей, чьи судьбы облекались в мифологические одежды. Отдельный плюс издания — многочисленные иллюстрации.
«Когда посланник принес сыновьям — и жене — вести о позорной смерти Рагнара, казалось, никто из них не отреагировал. Только один из сыновей, игравший в шахматы, с такой силой сжал фигуру, что из-под его ногтей потекла кровь. Тот, кто затачивал наконечник копья, срезал кожу с пальца, а третий держал в левой руке копье — и так сжал древко, что на нем остались вмятины, а потом оно раскололось. Ивар побелел, потом покраснел и почти почернел. Посланник позже сказал королю Элле, что спокойствие сыновей Рагнара было обманчивым. Они, без сомнения, вскоре придут в Англию с войском, чтобы мстить Элле. Сначала казалось, что дело можно уладить выплатой виры; Элла подарил Ивару земли, но тот применил знаменитый трюк с замерами с помощью шкуры быка (порезанной на ремни) и потребовал, чтобы ему передали огромные владения, включавшие в себя Лондон. Разгневанный Элла атаковал его, попал в плен и подвергся казни, известной как „кровавый орел” (см. с. 183). Он умер в мучениях. Ивар решил с этого времени править Англией, оставив Данию братьям.
В отличие от Сигурда, Рагнар не превзошел свой первый подвиг — убийство огромного змея, окружавшего дом Торы. Его двойственное отношение к неординарной жене — убийство собаки, игнорирование ее советов в первую брачную ночь, планы женитьбы на дочери шведского короля — выставляют его в малопривлекательном свете. Сыновья же Рагнара доверяют материнской мудрости и захватывают значительные территории. Ивар — новый тип героя: несмотря на серьезные физические недостатки, он способен управлять армией; становится блестящим стратегом и демонстрирует силу духа и разума, а не мускулов».
Майкл Ондатже. Военный свет. М.: Эксмо, 2019. Перевод с английского О. Качановой, В. Голышева
 Автор романа «Английский пациент», который в прошлом году по итогам читательского голосования был признан лучшей книгой из списка Букеровской премии за последние 50 лет, возвращается c историей в послевоенных декорациях. «Военный свет» рассказывает о взрослении брата и сестры, находящихся в запутанных отношениях с собственной матерью. «Свет» и «Пациента» сближает не только событийный антураж Второй мировой: оба романа рисуют прошлое как темную изменчивую территорию, затянутую «туманом войны», которая картографируется и переписывается в настоящем. Стиль повествования — фрагментарный, полный недосказанностей — вполне адекватен теме (довольно мучительного) пересмотра истории.
Автор романа «Английский пациент», который в прошлом году по итогам читательского голосования был признан лучшей книгой из списка Букеровской премии за последние 50 лет, возвращается c историей в послевоенных декорациях. «Военный свет» рассказывает о взрослении брата и сестры, находящихся в запутанных отношениях с собственной матерью. «Свет» и «Пациента» сближает не только событийный антураж Второй мировой: оба романа рисуют прошлое как темную изменчивую территорию, затянутую «туманом войны», которая картографируется и переписывается в настоящем. Стиль повествования — фрагментарный, полный недосказанностей — вполне адекватен теме (довольно мучительного) пересмотра истории.
«Снова повисает молчание матери, Роуз, подождав, встает, подходит к ней и при свете камина видит, что мать мирно спит. У каждой замужем свое, думает она. Стих гул последней волны бомбардировщиков, беззащитные дети спят на диване. Тонкие бледные руки матери лежат на подлокотниках кресла. К северо-востоку от них — Лоустофт, к юго-востоку — Саутуолд. Армия заминировала берега, чтобы не допустить десанта. Дома, конюшни, надворные постройки реквизированы. Ночью все исчезают; пятисотфунтовые фугаски и зажигательные бомбы с воем падают на малонаселенные дома и улицы, и становится светло, как днем. Семьи спят в подвалах, перетащив туда мебель. Большинство детей эвакуированы с побережья. По пути домой немецкие самолеты сбрасывают неистраченные бомбы. Население обнаруживает себя, только когда смолкнут сирены; люди выходят на торговую улицу и смотрят вслед улетевшим самолетам».
Адиб Хоррам. Дарий Великий не в порядке. М.: Popcorn Books, 2019. Перевод с английского Д. Расковой
 На полке хорошей литературы в категории «янг-эдалт» прибыло. Главный герой, 17-летний Дарий Келлнер, страдает приступами клинической депрессии, сталкивается с травлей в школе и непониманием отца. Жизнь подростка американо-иранского происхождения коренным образом меняется, когда он впервые покидает родной Портленд и отправляется в Иран, на родину родителей его матери. Тут он встречает первого настоящего друга, соседского тинейджера Сухраба. Дебютный (и, по всей видимости, в значительной степени автобиографический) роман графического дизайнера и любителя чая Адиба Хоррама без нравоучений и с какой-то очень честной интонацией говорит о том, о чем принято молчать или кричать, — о проблемах принятия себя, своего тела, особенностей, национального происхождения.
На полке хорошей литературы в категории «янг-эдалт» прибыло. Главный герой, 17-летний Дарий Келлнер, страдает приступами клинической депрессии, сталкивается с травлей в школе и непониманием отца. Жизнь подростка американо-иранского происхождения коренным образом меняется, когда он впервые покидает родной Портленд и отправляется в Иран, на родину родителей его матери. Тут он встречает первого настоящего друга, соседского тинейджера Сухраба. Дебютный (и, по всей видимости, в значительной степени автобиографический) роман графического дизайнера и любителя чая Адиба Хоррама без нравоучений и с какой-то очень честной интонацией говорит о том, о чем принято молчать или кричать, — о проблемах принятия себя, своего тела, особенностей, национального происхождения.
«Отец на самом деле никогда не рассказывал о том, как ему поставили диагноз „клиническая депрессия”. Эта история канула в лету. Он только упоминал, что это случилось, когда он был студентом колледжа, и что препараты много лет поддерживают его здоровье. Мол, мне не о чем волноваться. Ничего такого уж страшного...
К тому моменту, когда депрессию диагностировали мне и доктор Хоуэлл начал подбирать для меня правильную комбинацию препаратов, Стивен Келлнер уже благополучно жил со своей депрессией так давно, что практически о ней забыл. А может быть, у него вообще никогда не было таких Маневров Гравитационной Рогатки Настроения. Может быть, его лекарство сразу переформатировало ему мозг, и он мгновенно вернулся в состояние высокофункционального Сверхчеловека.
Мой же мозг оказалось куда сложнее переформатировать. „Прозак” — третий препарат, который опробовал на мне доктор Хоуэлл, когда я был еще в восьмом классе. Я принимал его в течение шести недель, прежде чем испытать свой первый Маневр Гравитационной Рогатки. Я тогда сорвался на парня из моего отряда бойскаутов по имени Ванс Хендерсон за то, что он пошутил по поводу акцента моей мамы».
Евгений Марголит. В ожидании ответа. Отечественное кино: фильмы и их люди. М.: Rosebud Publishing, 2019
 «В ожидании ответа» — это сборник статей, написанных замечательным историком кино Евгением Марголитом за последнее десятилетие; тематический же охват этих текстов распространяется на целый век отечественного кинематографа — от «Понизовой вольницы» (1908) до «Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына» (2014). Отбор лент неортодоксален и не совпадает с признанным каноном. Ракурсы анализа тоже весьма оригинальны — будь то трансмутации шпионского фильма или история нашего кино с точки зрения кассового успеха. Авторская рефлексия сохраняет остроту и хлесткость вне зависимости от материала, к которому она прилагается.
«В ожидании ответа» — это сборник статей, написанных замечательным историком кино Евгением Марголитом за последнее десятилетие; тематический же охват этих текстов распространяется на целый век отечественного кинематографа — от «Понизовой вольницы» (1908) до «Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына» (2014). Отбор лент неортодоксален и не совпадает с признанным каноном. Ракурсы анализа тоже весьма оригинальны — будь то трансмутации шпионского фильма или история нашего кино с точки зрения кассового успеха. Авторская рефлексия сохраняет остроту и хлесткость вне зависимости от материала, к которому она прилагается.
«Показательно, что отечественное кино нового поколения болеет мучительной неспособностью найти развязку сюжета.
Подойдя к реальности вплотную, уже почуяв раздувающимися молодыми ноздрями ее запах, авторы в кульминационный момент, когда диалог вот-вот должен начаться, замирают в нерешительности и начинают пятиться назад, бормоча нечто невнятное. Так выглядит тот же „Коктебель”, где постановщик „Свободного плавания” был одним из авторов. Точная, многообещающая заявка, едва ли не безупречная атмосфера, изощренная точность деталей — куда девается все это в последней трети? Лихорадочное, поспешное, скороговоркой придумывание финала. Развязка — как оговорка. Совершенно не мужское поведение, боязнь договорить и услышать внятный ответ.
Думаю, что „Свободное плавание” создается как оправдание этой беспомощности и боязни — умело и последовательно выстроенное. Неспособность авторов взглянуть реальности в лицо объясняется ее безликостью и безъязыкостью.
Тут-то прием и срабатывает. Дайте весь фильм на общих планах или средних — и не увидите глаз. Зато соблюдете пафос дистанции. Сделайте слово равным шуршанию мусора на дороге или палой листвы — и полная безъязыкость реальности наглядно продемонстрирована. Поколение обретает прием, с помощью которого ответственность перед реальностью с себя можно снять. В этом смысле „Свободное плавание” едва ли не манифест».
Надежда Михновец. Три дочери Льва Толстого. М.: КоЛибри, 2019
 Лев Толстой очень любил детей. Литературовед Наталья Михновец отслеживает житейские маршруты дочерей писателя — любимицы семьи Татьяны, рано умершей подвижницы Марии, пышущей энергией Александры. В интерпретации биографа все три «будто являли собой определенный этап» жизни и духовных исканий собственного отца, неизменно находясь «в его орбите».
Лев Толстой очень любил детей. Литературовед Наталья Михновец отслеживает житейские маршруты дочерей писателя — любимицы семьи Татьяны, рано умершей подвижницы Марии, пышущей энергией Александры. В интерпретации биографа все три «будто являли собой определенный этап» жизни и духовных исканий собственного отца, неизменно находясь «в его орбите».
Но даже не отрицая мощнейшего воздействия Льва Николаевича на судьбы своих отпрысков трудно не подивиться, сколь яркими и самобытными характерами обладали каждая из героинь этих страниц. Работа основана в том числе на малодоступных источниках, которые раньше нигде не цитировались.
«И вот пишет дочь Татьяна:
Я помню эту ужасную зимнюю ночь. Нас тогда было девять детей. Я, как сейчас, вижу всех нас: мы, старшие, сидим в ожидании на стульях в передней на первом этаже. Время от времени мы подходим к двери комнаты второго этажа, где разговаривали родители, и прислушиваемся к их голосам. Они, не смолкая, раздавались очень громко и выражали страшное волнение. Было очевидно, что между родителями происходил крайне важный и решительный спор. Ни тот ни другая ни в чем не уступали. Оба защищали нечто более дорогое для каждого, нежели жизнь: она — благосостояние своих детей, их счастье, — как она его понимала; он — свою душу.
Она „до сумасшествия, до боли” любила своих детей, он же больше всего любил истину. Слова полностью не долетали до нас, но мы слышали достаточно, чтобы понять, что происходило между ними. „Я не могу, — заявлял он, — продолжать жить в роскоши и праздности. Я не могу принимать участие в воспитании детей в условиях, которые считаю губительными для них. Я не могу больше владеть домом и имениями. Каждый жизненный шаг, который я делаю, для меня невыносимая пытка”. И он говорил в заключение: „Или я уйду, или нам надо изменить жизнь: раздать наше имущество и жить трудом наших рук, как живут крестьяне”.
А она отвечала: „Если ты уйдешь, я убью себя, так как не могу жить без тебя. Что же касается перемены образа жизни, то я на это не способна и на это не соглашусь, и я не понимаю, зачем надо разрушать во имя каких-то химер жизнь, во всех отношениях счастливую?” И объяснение продолжалось в заколдованном кругу, все время возвращаясь к т ому же неразрешимому и непреодолимому вопросу.
Понимали ли мы, что говорил отец? Что касается меня, то — нет. Я твердо верила, что он не может ошибаться».