Транссексуальная радость камикадзе
Жан Жене и его «Влюбленный пленник»
Жан Жене. Влюбленный пленник. М.: АСТ, 2021. Перевод с французского Аллы Смирновой
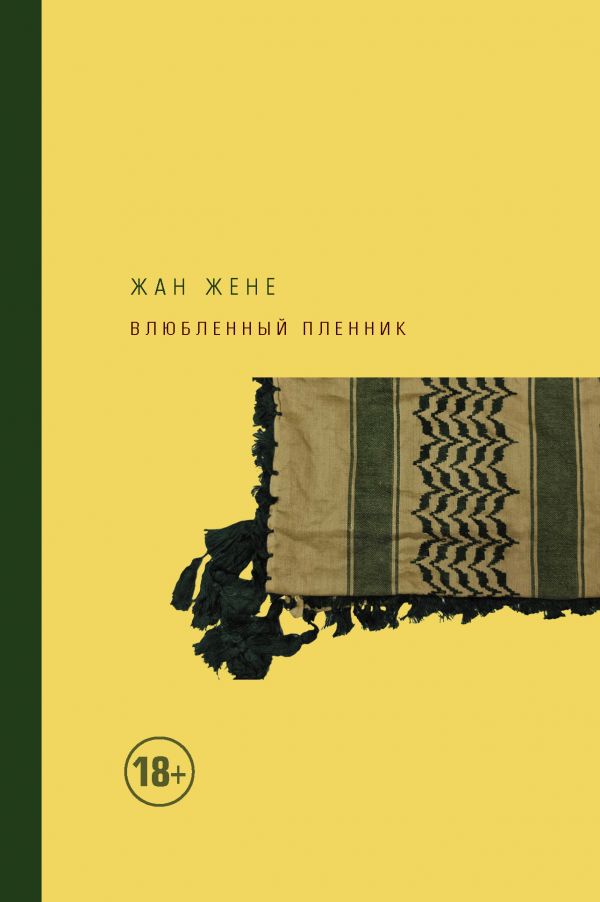 В 1964 году Жан Жене узнает о самоубийстве своего любовника-араба, канатоходца Абдаллы, после чего объявляет о прекращении литературной деятельности. Он впадает в затяжную депрессию и в мае 1967-го пытается покончить с собой, но чудом остается жив. В декабре того же года писатель отправляется в длительное путешествие по Дальнему Востоку, вернувшись из которого становится свидетелем студенческих волнений в Париже в мае 1968-го. Впечатленный увиденным и духовно возрожденный после путешествия, Жене пишет свой первый политический текст, посвященный Даниэлю Кон-Бендиту, одному из лидеров мая 68-го, что становится началом длительного романа одного из самым радикальных авторов XX века с не менее радикальными политическими движениями своего времени (среди них — палестинский ФАТХ, американские «Черные пантеры», немецкая RAF), который закончится лишь со смертью Жана 15 апреля 1986 года. Плодом этих взаимоотношений стала книга воспоминаний «Влюбленный пленник», над которой Жене начал работу после, пожалуй, своего самого значительного политического текста — статьи «Четыре часа в Шатиле», посвященной резне в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила, произошедшей 16 сентября 1982, и которую писал до самой смерти. До недавнего времени «Влюбленный пленник» наряду с блестящей публицистикой Жене оставался почти неизвестен русскому читателю, а теперь в издательстве АСТ готовится к выходу перевод «Пленника», выполненный Аллой Смирновой, уже познакомившей нас с «Чудом о розе» и «Богоматерью цветов», а также с поэзией Жене.
В 1964 году Жан Жене узнает о самоубийстве своего любовника-араба, канатоходца Абдаллы, после чего объявляет о прекращении литературной деятельности. Он впадает в затяжную депрессию и в мае 1967-го пытается покончить с собой, но чудом остается жив. В декабре того же года писатель отправляется в длительное путешествие по Дальнему Востоку, вернувшись из которого становится свидетелем студенческих волнений в Париже в мае 1968-го. Впечатленный увиденным и духовно возрожденный после путешествия, Жене пишет свой первый политический текст, посвященный Даниэлю Кон-Бендиту, одному из лидеров мая 68-го, что становится началом длительного романа одного из самым радикальных авторов XX века с не менее радикальными политическими движениями своего времени (среди них — палестинский ФАТХ, американские «Черные пантеры», немецкая RAF), который закончится лишь со смертью Жана 15 апреля 1986 года. Плодом этих взаимоотношений стала книга воспоминаний «Влюбленный пленник», над которой Жене начал работу после, пожалуй, своего самого значительного политического текста — статьи «Четыре часа в Шатиле», посвященной резне в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила, произошедшей 16 сентября 1982, и которую писал до самой смерти. До недавнего времени «Влюбленный пленник» наряду с блестящей публицистикой Жене оставался почти неизвестен русскому читателю, а теперь в издательстве АСТ готовится к выходу перевод «Пленника», выполненный Аллой Смирновой, уже познакомившей нас с «Чудом о розе» и «Богоматерью цветов», а также с поэзией Жене.
О чем эта книга? Как и все без исключения книги Жене, она о любви. Любовь для Жене — это чувственно данная истина, позволяющая выяснить фундаментальные отношения с самим собой и с окружающим миром. Любовь требует познания Другого, которое, в свою очередь, требует предельно откровенного самопознания. Любовь может быть безжалостно жестокой. И если раньше объектами любви для Жене были уголовники и бойцы французского Сопротивления, то теперь ими становятся молодые чернокожие американцы и палестинские солдаты, право на существование которых с точки зрения общества представляется таким же сомнительным, как право на существование воров, убийц, геев и коллаборационистов.
Радикалы одиноки в своей борьбе, а одиночество у Жене — это синоним красоты. Их борьба, скорее всего, обречена на поражение, но тем она значимей для поэта, поскольку таким образом превращается в символ человеческого существования. Любовь к палестинцам, как до этого любовь к преступникам, формирует для Жене бесконечный чувственный космос, в котором воспоминания и впечатления вызывают образы и ассоциации как уже знакомые по прошлым романам (например, в похоронах египетского президента Насера можно узнать похороны Жана Декарнена из «Торжества похорон»), так и совершенно особенные, в некотором смысле подводящие черту под всем остальным творчеством автора.
Опять же, как и в других романах, многие из этих образов религиозны, но религиозность Жене заслуживает отдельного обсуждения, а здесь мы лишь оговоримся, что от подобной религиозности у любых религиозных фундаменталистов волосы встали бы дыбом. В равной степени и палестинская революция, к причинам и следствиям которой Жене возвращается снова и снова на протяжении всей книги, имеет также и метафизическую, богоборческую сторону, выраженную, как обычно, предельно откровенно:
«Все, что я написал прежде, нужно было, чтобы отсрочить момент, когда я осмелюсь задать себе этот вопрос: если бы палестинская революция не была направлена против народа самого загадочного и непонятного, чьи истоки восходили к Истокам, а бытие возникло прежде Бытия, народа, который уготовил себе Тьму Веков, она бы привлекала меня с такой силой? Мне кажется, задавая себе этот вопрос, я сразу же и отвечаю на него. Четко выделяясь на этом фоне: Ночь всех Начал — и так будет всегда — палестинская революция переставала быть просто битвой за отнятую землю, она становилась борьбой метафизической. Навязывая всему миру свою мораль и свою мифологию, Израиль уподоблял себя Власти. Он был Властью. Стоило лишь взглянуть на убогие ружья фидаинов, и становилась очевидна эта несоизмеримая дистанция между двумя вооружениями: с одной стороны, довольно мало убитых и тяжелораненых, с другой — истребление, санкционированное и одобренное европейскими и арабскими народами».
Судя по всему, именно этот пассаж заставил Эдварда Саида назвать книгу «отчасти антисионистским трактатом». Впрочем, ничего более антисионистского, чем процитированный выше отрывок, в ней нет. В «Пленнике» вообще практически нет обвинений или обличений «той стороны», кроме нескольких отдельных посвященных израильтянам микросюжетов (в которых Жене ими, к слову, восхищается в соответствии с собственной противоречивой логикой). А если сравнивать интонацию книги с предшествующей ей публицистикой, то она может показаться неожиданно спокойной, даже медитативной. Дело, вероятно, в том, что любовь Жене к палестинцам — это «последняя любовь» поэта, причем рассмотренная через промежуток времени продолжительностью более десятка лет. Жене впервые попал в Палестину в 1970-м, а в 1979-м у него обнаружили рак горла, с которым писатель боролся до конца жизни и который только обострился во время работы над книгой. Близость смерти и временная дистанция порой делает интонацию «Пленника» ностальгической, а порой добавляет здорового скепсиса по отношению к революционным движениям и событиям прошлого.
Хотя критики в книге тоже хватает и основной ее объект — это западные СМИ с их тенденциозным освещением деятельности радикалов. Здесь мы снова сталкиваемся с проблемой Другого. Так, палестинцы признаются автору, что Запад либо вообще не интересуется их проблемами, либо выставляет их в ложном свете («история Палестины, рассказанная самими палестинцами, — это не то, что мир хотел слышать»), что приводит к ситуации, в которой за журналистскими штампами и сентиментальными историями, написанными в угоду публике, человеческие страдания перестают восприниматься как таковые (что не так давно со всей очевидностью было продемонстрировано в ходе очередной эскалации арабо-израильского конфликта, когда волна чудовищной обывательской ненависти к палестинцам накрыла русский сегмент фейсбука, для которого нищета и отчужденность давно не служат аргументом в пользу человечности). Сначала журналисты врут сами себе, потом своим читателям и зрителям. Жан Жене, описывая, насколько драгоценным может быть опыт подлинной встречи с этим Другим, как бы противостоит всем им вместе взятым:
«Газеты, то есть журналисты, описывая палестинцев такими, какими они вовсе не являлись, пользовались готовыми лозунгами. Когда я жил с палестинцами, мое радостное изумление было вызвано столкновением этих двух очевидностей: они нисколько не походили на портреты, нарисованные журналистами, и противоречили им до такой степени, что их сияние — по сути, само их существование — как раз и было следствием этого несходства. То, что в газете именовалось впадиной, в реальности оказывалась возвышением, и такого вранья было много: от незначительного до самого бесстыдного. Оставаясь с ними, я оставался сам — не знаю, как еще, каким другим способом сказать это — в своих собственных воспоминаниях. Эта, возможно, детская и наивная фраза не означает, что я прожил — и теперь вспоминаю о них — некие предыдущие жизни, она лишь ясно — яснее некуда — свидетельствует о том, что палестинское восстание было одним из самых старых моих воспоминаний. „Коран вечен, предвечен, единосущен с Богом”. За исключением этого слова, „Бог”, таким же было для меня и их восстание: вечным, предвечным, единосущным со мной. Это достаточно ясно говорит о том, какое значение я придаю воспоминаниям?»
Кстати, такая открытость информационной повестке — одна из отличительных особенностей «Пленника» по сравнению с предыдущими романами автора, довольно в этом смысле герметичными. До этого Жене часто обращался к СМИ в своей полемичной, ориентированной на текущий момент публицистике, стилистически очень разнообразной и новаторской, где он использовал газетные цитаты или пересказывал в литературной форме кадры кинохроники, тем самым помещая сообщение в необычный для него контекст, что, например, позволяло выделить его идеологическое содержание или проверить его на прочность (своеобразное развитие авангардных практик коллажа и «разворота зрения», которыми пользовался и Эдуард Лимонов). Затем эта техника, несколько сбавив в полемической остроте, перекочевала в уже более медитативные воспоминания. Кроме того, почти исчезла пресловутая «барочная» пышность стиля, вместо нее в книге чаще встречаются сдержанные описание обстоятельств жизни палестинцев и «Черных пантер», которые, как уже было отмечено, перемежаются авторскими размышлениями, воспоминаниями, лирическими отступлениями и религиозными откровениями.
И здесь хотелось бы выделить еще одну очень интересную особенность «Пленника», а именно роль в нем женщин. Принято считать, что женщины в книгах Жене — это третьестепенные персонажи, если вообще не переодетые мужчины, что иногда даже приводило к упрекам писателя в мизогинии. Как отмечает биограф писателя Джереми Рид: «Подобно Уильяму Берроузу, он почти не бывал в женском обществе и потому игнорировал эту сторону жизни, очень важную. В качестве компенсации он, конечно, бросался в другую крайность, о чем свидетельствуют его ранние книги. Как известно, в его жизни не было матери или другой женщины, которая ее заменяла бы. Он рано попал в тюрьму, где его окружали одни мужчины. Можно сказать, что его, брошенного матерью, усыновили мужчины, гомосексуалисты — он сам говорил о том, что нашел мать в их лице. Все это, разумеется, отразилось на том, что он писал. В его сочинениях бросается в глаза отсутствие женщины — очень важный пробел». Все это действительно так и, как сам Жене признается в «Пленнике», в тех же рядах «Черных пантер» для себя он нашел прежде всего ласку и безопасность. Тем не менее ключевые образы книги на этот раз связаны с женщинами.
И самый впечатляющий такой образ — это Пьета, где Богоматерью становится мать палестинского солдата Хамзы, который ночью отправляется на опасное задание, а Жене остается ночевать в его комнате. Когда он готовится ко сну, мать Хамзы приносит ему чашку кофе, как она всегда делала это для своего сына, и таким образом как бы становится матерью самого Жене, хотя по возрасту годится ему скорее в дочери (в некоторых изображающих Пьету скульптурных композициях Богоматерь тоже кажется моложе Христа). Для автора это событие вырастает до масштабов всей его жизни, которая теперь сделала полный круг — от матери, потерянной в детстве, чью ласку и заботу он находил в преступниках и политических радикалах, до матери, обретенной в палестинской ночи сопротивления:
«Это вошла мать. Она пришла из ночи, казавшейся теперь оглушительной, или из той ледяной ночи, которую я повсюду ношу с собой? Обеими руками она держала поднос, осторожно поставила его на синий с желтыми и черными цветами столик, о котором я говорил.
...
Я боялся лишь одного: что моя вежливость не сравняется с ее учтивостью, а вдруг какое-нибудь едва заметное движение рук или ног выдаст мое притворство. Но все произошло так ловко и осторожно, что стало понятно: мать каждую ночь приносила Хамзе кофе и стакан воды. Бесшумно, только четыре отрывистых стука в дверь, и вдалеке, как на картине Детайля, канонада на фоне звезд.
Поскольку сын этой ночью находился на поле боя, я занимал его место в его комнате и на его постели и, возможно, играл его роль. На одну лишь ночь и на время, пока длилась эта сцена, старик, старше по возрасту, чем она сама, становился сыном матери, потому что „я был, когда ее еще не было”. Будучи моложе меня, на время этого родного — родственного? — действа она, оставаясь матерью Хамзы, стала моей матерью. Этой ночью, ставшей навсегда моей собственной, моей личной ночью, дверь моей комнаты открылась и закрылась. Я уснул».
В другом случае женское прямо отождествляется со смертью. Для Жене смерть — предельное выражение инаковости, она связана с красотой и одиночеством; смерть завораживает Жене, в его книгах ей отведено центральное место (вспомним приговоренного к смерти убийцу Аркамона из «Чуда о розе», где он играет роль, с одной стороны, мужского полового органа централа Фонтевро, а с другой — солнца, или скорее даже черной дыры, радикального ничто в центре чувственного космоса романа). Любопытно, что в «Пленнике» образ Аркамона получает развитие в фигуре трансгендера, то есть инаковость смерти совпадает уже с инаковостью женского, а не мужского, о чем Жене размышляет сидя в гостиничном номере и слушая в плеере «Реквием» Моцарта (на наш взгляд, одна из лучших сцен в европейской литературе XX века):
«Переход от одной половины, в щетине и волосатой, к другой, с эпиляцией, должен быть сладостным и страшным. „Твоя радость переполняет меня...” „Прощай, дорогая половина, я умираю в себе...” Покинуть мужскую сущность, ненавистную, но привычную, — это значит покинуть мирскую жизнь ради монастыря или лепрозория, оставить мир брюк ради мира бюстгальтеров — сродни смерти, которую ожидаешь, но страшишься, и, не правда ли, когда хор поет Tuba mirum, это можно сравнить с самоубийством? Транссексуал станет чудовищем или героем, а еще ангелом, потому что я не знаю, воспользуется ли кто-то этим искусственным половым органом хотя бы один-единственный раз, если только все тело и его новое предназначение не сделаются одной огромной вагиной, когда упадет отцветший член; нет, хуже, он не упадет, а падет, поверженный. Страшное начнется, когда ступня откажется уменьшаться: трудно найти женскую обувь 43-44-го размера на шпильках, но радость перекроет все, радость и веселье. Об этом и говорит „Реквием”, о радости и страхе. Так палестинцы, шииты, юродивые, которые, смеясь, устремились к старейшинам в пещеры, позолоченные лодочки 43-44-го размеров взорвались тысячами осколков смеха, вперемежку с пугливым отступом тромбонов. Благодаря этой радости в смерти, или, вернее сказать, в новой, несходной с этой, жизни, несмотря на скорби, нравственность стала не нужна. Радость транссексуала, радость „Реквиема”, радость камикадзе... радость героя».
С другой стороны, мужская красота и ее опоэтизированный символизм, знакомые по предыдущим книгам автора, никуда не делись:
«А еще — как же она была трагична, мнимая мужественность этих молодых парней, воспевающих нежность незримой богини, а может, какой-нибудь бойкой девицы, что брела, пьяно пошатываясь, хранима венцом из белых роз. Эти идущие размеренным шагом силачи показались мне фантастическими, нереальными, и уже — обитателями небесного свода, куда они в самом деле направлялись».
(Позволим себе небольшую литературоведческую вольность и отметим, насколько это напоминает описание молодых коммунистов у позднего Мандельштама: «Шли товарищи последнего призыва / По работе в жестких небесах, / Пронесла пехота молчаливо / Восклицанья ружей на плечах» — стихотворение, интонационно близкое «Пленнику», как, кстати, и «Двенадцать» Блока, что блестяще передано в переводе).
Напоследок поговорим о связи любви и политики, для которой наиболее точные слова«Выбор, который человек из привилегированного общества, вопреки своему рождению и принадлежности к этому обществу, совершает в пользу другого народа, является врожденным; этот выбор основан на ничем не обоснованной симпатии, это не значит, что справедливость здесь не имеет никакого значения, но справедливость и защита этого народа рождаются из сентиментального, может быть, даже чувственного влечения. Я француз, но целиком и полностью, всем сердцем и без всяких сомнений защищаю палестинцев. Они правы, потому что я люблю их. Но любил бы я их, если бы несправедливость не превратила их в скитальцев?» Жан Жене нашел еще в «Четырех часах в Шатиле». Можно сказать, что «Влюбленный пленник» — доведенное до возможного предела развитие этой мысли, в некотором роде уже ее элегическая тень. Какие из этого можно сделать выводы? Так или иначе, любовь и политика неизбежно существуют в одной экзистенциальной плоскости (узловая для европейской культуры посылка, которая вбирает в себя такие разные прецеденты, как философия Платона, пушкинское «К Чаадаеву»Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья. и концепция четырех истинностных процедур Алена Бадью, где любовь и политика существуют наряду с наукой и искусством).
Любовь и политика, иногда совпадая до неразличения, ставят очень похожие вопросы о смысле человеческого существования. Как любовь, так и политика не имеют отношения к морали и любым условностям буржуазного или традиционного общества. Они сами творят ценности из ничего, поэтому фигуры влюбленного и политического радикала так близки фигуре поэта, чьи слова записываются на пустоте. Жан Жене и был всю жизнь таким поэтом, хотя чаще писал романы, чем стихи. Но воспринимать его нужно именно так и никак иначе.
Впрочем, почему бы в завершение не выяснить, как Жене воспринимали палестинцы, которым он посвятил столько проникновенных строк? Альбер Диши, автор фундаментальной биографии Жене, в интервью Марусе Климовой вспоминает: «Я встретился с Жаном Жене, когда он приехал в Бейрут по приглашению Махмуда Аль-Хамшари, одного из активистов движения за освобождение Палестины, с которым Жене познакомился еще в Париже. Жене был настолько потрясен событиями так называемого черного сентября в Иордании, что решил сам посетить лагеря палестинских беженцев. Вначале он предполагал задержаться на Ближнем Востоке примерно неделю, а в результате провел там целых шесть месяцев. Я в то время учился в Университете и вдруг услышал от своих друзей: „Ты знаешь, к нам скоро приедет Жан Жене”. А я очень смутно представлял себе тогда, кто это такой. Конечно, я слышал его имя, но ничего из написанного им не читал, даже не знал, что он писатель. Хотя само имя Жене на Ближнем Востоке было достаточно известно и, можно сказать, уже стало нарицательным. Однажды жена Махмуда Аль-Хамшари, например, спросила у одного палестинского солдата, какова цель палестинской революции, и тот ей ответил: „Создание нового человека”. Она попросила пояснить, и он сказал: „Такого человека, как Жан Жене!”. При этом оказалось, что он не только никогда не видел самого Жене, но и не читал ни одной его книги».
Думаем, комментарии тут излишни.