Тимур и Приморские партизаны: книги недели
Что спрашивать в книжных
Исследование кумара, сны Пантагрюэля, поэма Ильи Сельвинского, исповедь фабричной рабочей, а также пособие по изучению неформальных объединений молодежи. Как обычно по пятницам, о самых интересных новинках рассказывает Иван Напреенко.
Франсуа Рабле. Забавные сны Пантагрюэля. М.: Издательство книжного магазина «Циолковский», 2021. Перевод с французского Александра Мурашова
 Занимательный сборник гравюр, который вышел во Франции в 1565 году под названием «Забавные сны Пантагрюэля, содержащие множество изображений, выдуманных мэтром Франсуа Рабле, и последнее творение оного, для развлечения здравых умов». Рабле к тому моменту уже двенадцать лет лежал в могиле; о его навыках рисовальщика и были ли они вообще единого мнения у исследователей не сложилось до сих пор. Известно, что великий сочинитель имел архитектурные таланты, а значит, и рисовать мог. Как бы то ни было, из комментариев издателя узнать, кто же автор, было невозможно, и в сборнике приводятся две статьи французских историков искусства, отстаивающих противоположные взгляды: да, рисовал сам создатель Пантагрюэля; нет, ни в коем случае не он.
Занимательный сборник гравюр, который вышел во Франции в 1565 году под названием «Забавные сны Пантагрюэля, содержащие множество изображений, выдуманных мэтром Франсуа Рабле, и последнее творение оного, для развлечения здравых умов». Рабле к тому моменту уже двенадцать лет лежал в могиле; о его навыках рисовальщика и были ли они вообще единого мнения у исследователей не сложилось до сих пор. Известно, что великий сочинитель имел архитектурные таланты, а значит, и рисовать мог. Как бы то ни было, из комментариев издателя узнать, кто же автор, было невозможно, и в сборнике приводятся две статьи французских историков искусства, отстаивающих противоположные взгляды: да, рисовал сам создатель Пантагрюэля; нет, ни в коем случае не он.
Предельно любопытны сами гравюры неизвестного мастера — десятки монструозных фигурок, лишенных подписей и каких-либо иных эксплицитных наводок, как их следует трактовать. Единственное, что можно констатировать с уверенностью, — так это влияние североевропейских мастеров вроде Брейгеля и Босха и комически-тревожный эффект, который производит эта вереница рыболюдей, антропоящеров и прочих образин, в чьих телесах теряются границы между живым и неживым, животным и растительным. В своей необъяснимой и недидактической причудливости они суть чистые соцветья фантастического, которым, впрочем, можно дать вполне практическое применение: «Забавные сны» — это выдающийся артбук с идеями для татуировок.
«Через „Забавные сны Пантагрюэля” протягивается нить от Брейгеля, преемника „осени Средневековья” (Иеронима Босха!), с ее плясками и триумфами Смерти, с модными ларцами из костей — к искусству маньеризма и барокко».
Марина Кудимова. Кумар долбящий и созависимость. Трезвение и литература. СПб.: Алетейя, 2021
 Писатель и поэт Марина Кудимова, «тамбовская волчица, живущая в Переделкине» (по выражению сайта «45-я параллель»), — лауреат множества премий, автор стихов, про которые Евтушенко сказал «Кудимову читать — как собственный мозг перепахивать», человек, пребывающий, по собственным словам, «в бойкоте со стороны литистеблишмента». Ее имя, правду сказать, не то чтобы на слуху. Читателя неискушенного книга Кудимовой способна фасцинировать по меньшей мере двумя вещами: названием и аннотацией, из которой крайне трудно понять, что же содержится внутри.
Писатель и поэт Марина Кудимова, «тамбовская волчица, живущая в Переделкине» (по выражению сайта «45-я параллель»), — лауреат множества премий, автор стихов, про которые Евтушенко сказал «Кудимову читать — как собственный мозг перепахивать», человек, пребывающий, по собственным словам, «в бойкоте со стороны литистеблишмента». Ее имя, правду сказать, не то чтобы на слуху. Читателя неискушенного книга Кудимовой способна фасцинировать по меньшей мере двумя вещами: названием и аннотацией, из которой крайне трудно понять, что же содержится внутри.
Внутри же — эссе и публицистика, которая по большей части посвящена русской литературе; но не только. Кудимова работает с «культурологической проблематикой» весьма широкого профиля; ее текстами действительно легко упахаться. Автор решительно не хочет нравиться, судит неприрученно и афористично, цепляя, с одной стороны, незашоренностью мысли, а с другой — непредсказуемым кругозором, где ссылки на данные ВЦИОМ, Витгенштейна, Кобейна и Дугина ложатся плотно, как снаряды на Курской дуге. В полном соответствии с названием немало захватывающих страниц посвящено неуютному и остроумному анализу алкогольной физики и метафизики русской культуры; поддакивать всему подряд не тянет, несвоевременность и несовременность рефлексии местами бьет в глаза, но все вместе по-своему увлекает.
P. S. А в названии, кстати говоря, обыгрывается созвучие с выражением «кимвал звенящий».
«На фоне отсутствия презумпции трезвости развивается алкофобия. На одном из первых сабантуев одноклассник, хлебнув вина „Солнцедар”, обреченно сказал:
— Ну, все! Теперь я сопьюсь.
И ведь выстроил парадигму безошибочно. Спился, перекрыл олифу, доплыл до растворителей».
Ольга Пинчук. Сбои и поломки. Этнографическое исследование труда фабричных рабочих. М.: Common place, 2021
 Свою книгу социолог Ольга Пинчук открывает «предуведомлением»: историей о том, как представительница племени журналистов взяла у исследовательницы интервью про ее работу на заводе; интервью вышло с заголовком, после которого бывшие коллеги — заводские рабочие — перестали приглашать Пинчук на свои тусовки. И хотя это прямо не проговаривается, по-моему, предуведомление следует читать как сардоническое признание в том, что представитель племени социологов, занимающийся включенным наблюдением (в данном случае устроившись работать на завод), совершает по отношению к тем, за кем он наблюдает (за рабочими), предательство, с неизбежным искажением транслируя их «уклад и нравы» в академический мир.
Свою книгу социолог Ольга Пинчук открывает «предуведомлением»: историей о том, как представительница племени журналистов взяла у исследовательницы интервью про ее работу на заводе; интервью вышло с заголовком, после которого бывшие коллеги — заводские рабочие — перестали приглашать Пинчук на свои тусовки. И хотя это прямо не проговаривается, по-моему, предуведомление следует читать как сардоническое признание в том, что представитель племени социологов, занимающийся включенным наблюдением (в данном случае устроившись работать на завод), совершает по отношению к тем, за кем он наблюдает (за рабочими), предательство, с неизбежным искажением транслируя их «уклад и нравы» в академический мир.
Стремление к максимальной прозрачности рефлексии в сочетании с подразумеванием того, что достичь полной ясности нельзя, безусловно, сильная сторона книги.
В рамках исследовательского проекта автор в течение года работала на кондитерской фабрике простой рабочей на конвейере; опыт, который начинался как методологический эксперимент, возымел экзистенциальные последствия. В итоге возник очень честный и фактурный текст (в конечном счете, об одиночестве слишком рефлективного исследователя), который, по замыслу Пинчук, должен демистифицировать фабричных рабочих и дать точку для новых содержательных разговоров об их труде.
Важно, что это не только автоэтнография рабочей, но и автоэтнография исследовательницы, участницы академического проекта, который пошел вовсе не так, как планировалось, пошел наперекосяк. Неприкрытость пустот и провалов — этот текст делают важным для дискуссий в том числе и они.
«Все постепенно сбредались в один угол. Вдруг в цех вихрем залетает Надежда Сергеевна и кричит что есть сил:
— Никто никуда не уходит! Стоим на рабочем месте и режем брак!»
Анна Красникова. Поэма Ильи Сельвинского «Улялаевщина». История текста. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, Нестор-История, 2021. Содержание
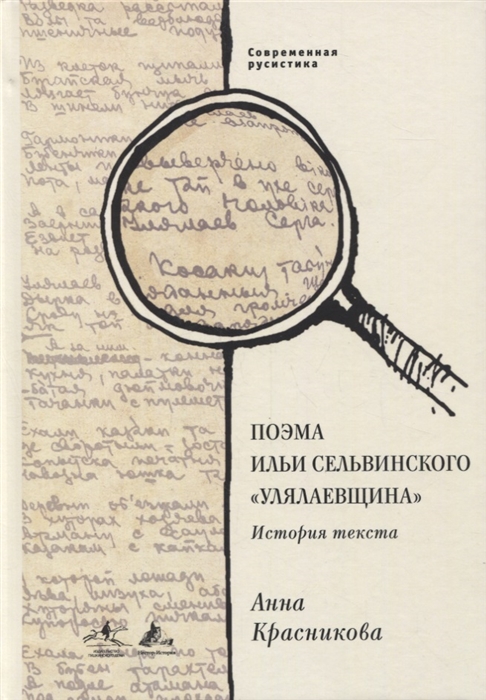 Сегодня поэт Илья Сельвинский (1899—1968) плотно забыт, редуцировавшись до строчек Эдуарда Багрицкого «А в походной сумке — / спички и табак, / Тихонов, / Сельвинский, / Пастернак...». Но в свои годы силы он соперничал с Маяковским, шеймил космополита-Пастернака (что не мешало считать его своим учителем) и вообще был крупной шишкой. Главным произведением Сельвинского считается поэма — она же «роман в стихах» и «эпопея» — «Улялаевщина». В ней автор описал борьбу уральской казачьей вольницы с советской властью. Впервые опубликованная 1924 году, она сразу была признана критиками одним из ярких артефактов советской поэзии; дальнейшая ее судьба странна. Ей-то и посвящено диссертационное исследование филолога Анны Красниковой, без особых, по всей видимости, адаптаций изданное для широкого читателя.
Сегодня поэт Илья Сельвинский (1899—1968) плотно забыт, редуцировавшись до строчек Эдуарда Багрицкого «А в походной сумке — / спички и табак, / Тихонов, / Сельвинский, / Пастернак...». Но в свои годы силы он соперничал с Маяковским, шеймил космополита-Пастернака (что не мешало считать его своим учителем) и вообще был крупной шишкой. Главным произведением Сельвинского считается поэма — она же «роман в стихах» и «эпопея» — «Улялаевщина». В ней автор описал борьбу уральской казачьей вольницы с советской властью. Впервые опубликованная 1924 году, она сразу была признана критиками одним из ярких артефактов советской поэзии; дальнейшая ее судьба странна. Ей-то и посвящено диссертационное исследование филолога Анны Красниковой, без особых, по всей видимости, адаптаций изданное для широкого читателя.
Красникова — с лупой к тексту — первой прослеживает, как Сельвинский переписывал свою эпопею едва ли не с момента ее выхода на свет. Импульсом к хирургической автокоррекции служила природная склонность поэта к «доведению до ума» уже сделанного, а затем, по мере окаменения политического климата, уже страх преследований. В итоге пятое издание 1956 года настолько радикально отличалось от первого, что впору говорить об отдельном произведении. Сельвинский убрал все лингвистические игры, засушил и упростил характеры героев, вытравил даже гипотетические двусмысленности сюжета и в итоге новых поклонников не завоевал, а старых — утратил.
Исследовательница скрупулезно, привлекая массу раннее не использованных источников, восстанавливает хронику мутаций, фиксирует их причины, а заодно создает набросок первой научной биографии поэта. Чтение достаточно специализированное (хотя бы в силу наличия бесконечных сопоставительных таблиц), но по меньшей мере познавательное.
«Эсер, маскировавшийся под теоретика анархизма, — в тексте 1935 года Штейн, а в 1956-м Панкратор Васильевич Куц».
Алистер Фрейзер. Гангстеры, банды и криминал. Харьков: Гуманитарный центр, 2021. Перевод с английского Е. Тарабановой
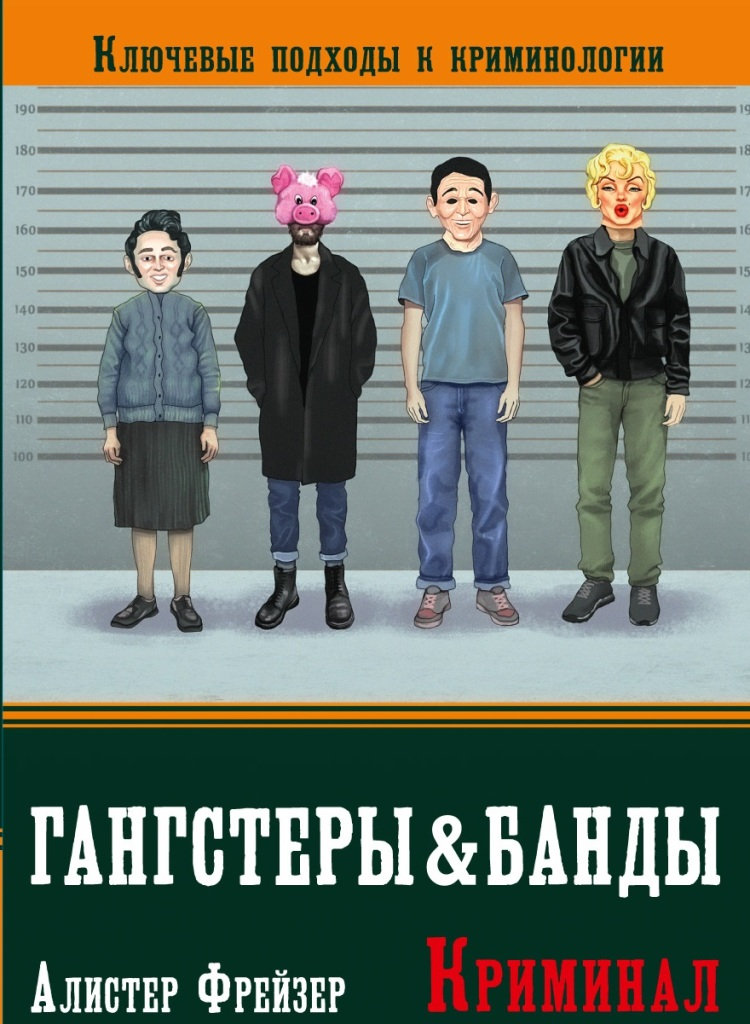 В английском названии книги Gangs and Criminal есть смысловое напряжение, напрочь утраченное в неловком русском варианте. Дело в том, что слово gang имеет, конечно, преступную коннотацию, но, в отличие от русского, к ней не сводится. Gang можно обозначить любую группу молодых по преимуществу людей, которые проводят вместе время, но не обязательно (хотя и вероятно) нарушают закон.
В английском названии книги Gangs and Criminal есть смысловое напряжение, напрочь утраченное в неловком русском варианте. Дело в том, что слово gang имеет, конечно, преступную коннотацию, но, в отличие от русского, к ней не сводится. Gang можно обозначить любую группу молодых по преимуществу людей, которые проводят вместе время, но не обязательно (хотя и вероятно) нарушают закон.
Почему это существенно? Потому что gang в своей амбивалентности имеет отношение к самой тайне социального порядка: с одной стороны, это его, порядка, протоформа, а с другой — в этой протоформе содержится импульс к переворачиванию существующих социальных устоев. Именно поэтому социология интересуется «бандами» от своих истоков, начиная с Чикагской школы. По-русски неуклюжим, но более точным переводом могло бы быть «неформальное объединение молодежи», которым можно без тени сомнений именовать широкий спектр феноменов от Тимура и его команды до группировки «Тяп-Ляп» с Приморскими партизанами где-то посередине.
Английский социолог и криминолог Алистер Фрейзер написал введение в gang studies — не столько исчерпывающий компендиум, сколько карту исследовательских направлений. Если у вас вдруг возникло неудержимое желание разобраться в истории явления, вникнуть в нюансы концептуализации gangs, прикинуть, что к чему в методологии изучения, — вам сюда; изложено по верхам, но представление составите. Отдельно освещены такие острые темы, как банды в популярной культуре, феминистская криминология, ювенальная юстиция и молодежные объединения на Глобальном Юге.
«На микроуровне исследование социальной значимости употребления наркотиков, проведенное Хантом и другими исследователями среди вовлеченной в банды молодежи в Сан-Франциско, бросает вызов „упрощенным и стереотипным взглядам на женщин, употребляющих наркотики <...>”».