Теплая ламповая античность
Рецензия на книгу Армана Мари Леруа «Лагуна»
Аристотель создал биологию как науку — так можно вкратце пересказать основной тезис книги «Лагуна» Мари Леруа Армана. Мария Елиферова рассуждает о книге и о том, почему мир Аристотеля уютен для современного сознания.
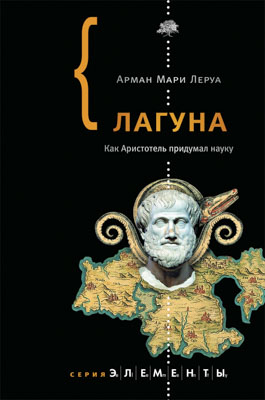 Арман Мари Леруа. Лагуна. Как Аристотель придумал науку. М.: АСТ: Corpus, 2019. Перeвод с английского С. Ястребовой. Содержание
Арман Мари Леруа. Лагуна. Как Аристотель придумал науку. М.: АСТ: Corpus, 2019. Перeвод с английского С. Ястребовой. Содержание
Имя Аристотеля в наши дни привычнее слышать в среде гуманитариев, чем биологов. Хотя советская научно-популярная литература о животных нередко упоминала его (в силу традиции возводить всю историю научного знания к античности), мировая академическая наука перестала интересоваться Аристотелем еще в позапрошлом веке. После Дарвина, Геккеля и позднейших достижений генетики за трудами Аристотеля о природе окончательно закрепилась репутация собрания нелепых баек — вроде утверждения, что ласточки зимой впадают в спячку. Не помогала авторитету античного мыслителя и та зловещая роль, которую ему невольно довелось сыграть в судьбе европейской астрономии: его взгляды на устройство Солнечной системы, которые церковь отстаивала как догмы и в XVII в. дошла до прямых репрессий ради их сохранения, потерпели сокрушительное поражение и стали символом всего ретроградного. Во всяком случае, представители естественных наук в наше время интерес к Аристотелю основательно потеряли.
Арман Мари Леруа, уже знакомый русскому читателю по книге «Мутанты», пытается исправить эту несправедливость. Он провозглашает Аристотеля ни больше ни меньше как создателем биологии, приводя остроумные аргументы, чем Аристотель отличается от Плиния Старшего и других античных авторов трактатов о естественной истории. Слово «биология» звучит в книге применительно к Аристотелю так часто, что выглядит сознательным эпатажем: специалисты по истории идей привыкли к тому, что презентизм из них выколачивают чуть ли не палками еще на втором курсе бакалавриата. Несомненно, именно на возмущенную реакцию и рассчитывает автор: как так, о какой биологии во времена Аристотеля может идти речь? Потому что дальше следует подробное изложение взглядов древнегреческого философа на природу: какими вопросами задавался Аристотель, какие ответы на них давал и как все это соотносится с проблематикой современной биологии.
Заглавие «Лагуна» книга получила по лагуне острова Лесбос (совр. Митилини), где Аристотель исследовал морскую фауну. Вопреки распространенному стереотипу, он не был чистым теоретиком, создателем оторванных от жизни умозрительных построений: он препарировал каракатицу и ряд других животных, многие его наблюдения за природой, в которых порой сомневались позднейшие ученые, оказались точны. В частности, Аристотель описал заботу о потомстве у местного вида сомов. И всё же попытки чрезмерно сблизить Аристотеля с современными биологами могут вызвать внутренний протест: как, неужели автор не осведомлен о том, что его главному герою был чужд метод экспериментальной проверки утверждений, который сейчас считается основой научности? Оказывается, превосходно осведомлен и находит место посетовать на то, что Аристотелю была знакома лишь половина современного научного метода — наблюдение и обобщение.
Леруа постоянно обманывает читателя-гуманитария кажущейся поверхностностью в знании источников. Вот он говорит о том, что в аристотелевской вселенной нет бога, и читатель готов поймать автора: а как же ум-перводвижитель? Не сомневайтесь, Леруа в курсе про ум-перводвижитель, которому будет отведено должное место в обзоре аристотелевской «Физики»; но приходится согласиться, что этот ум-перводвижитель не имеет никакого отношения к богам-творцам религиозного толка — Вселенная не сотворена им, она существует вечно.
Физику Аристотеля, пожалуй, труднее всего втиснуть в рамки современной науки. Правильно догадавшись, что явления живой природы следует объяснять через физику, он сделал ряд катастрофически ошибочных посылок: отверг атомизм Демокрита, заменив его теорией четырех стихий, счел, что небесные тела состоят не из обычного вещества, а из «эфира» и т. д. Все это привело его к крайне экстравагантным утверждениям — например, будто дыхание служит охлаждению тела, удаляя избыток тепла. Комментируя эту фантастическую с точки зрения физиологии теорию (интересно, считал ли Аристотель, что в снегу животное сможет жить без дыхания?), Леруа находит случай полюбоваться тем, что при всей фактической неверности теории Аристотель умудрился построить модель настоящей равновесной системы.
 Чтение может вызвать немало раздражения как у гуманитариев, так и у биологов. У первых — тем, что в стремлении перевести понятийный аппарат Аристотеля на язык современной науки автор нередко перегибает палку: так, попытки установить параллели между аристотелевским эйдосом-формой, обеспечивающим животному его свойства, и современным представлением о геноме выглядят чрезмерной натяжкой. У вторых — тем, что стремится привнести в биологию телеологизм, настойчиво смешивая понятия функции и цели (по-видимому, Леруа считает, что первое лишь стыдливый синоним второго). Однако по крайней мере в одном отношении книга чрезвычайно содержательна. Она не просто дает представление о том, насколько широк был круг интересов Аристотеля — от строения каракатицы до движения небесных тел, от физиологии зачатия до управления полисом, — но и вскрывает стереотипы мышления, унаследованные позднейшей наукой от Аристотеля. Русскому читателю будет особенно любопытно узнать, что выдвинутая Т. Д. Лысенко эксцентричная теория перерождения пшеницы в рожь и овса в овсюг (судя по всему, оставшаяся неизвестной Леруа — в книге она не упомянута) восходит к воззрениям Теофраста, ученика Аристотеля. Настоящий детектив для историков наук: мог ли малообразованный Лысенко каким-то образом познакомиться с идеей Теофраста или додумался до этого самостоятельно?
Чтение может вызвать немало раздражения как у гуманитариев, так и у биологов. У первых — тем, что в стремлении перевести понятийный аппарат Аристотеля на язык современной науки автор нередко перегибает палку: так, попытки установить параллели между аристотелевским эйдосом-формой, обеспечивающим животному его свойства, и современным представлением о геноме выглядят чрезмерной натяжкой. У вторых — тем, что стремится привнести в биологию телеологизм, настойчиво смешивая понятия функции и цели (по-видимому, Леруа считает, что первое лишь стыдливый синоним второго). Однако по крайней мере в одном отношении книга чрезвычайно содержательна. Она не просто дает представление о том, насколько широк был круг интересов Аристотеля — от строения каракатицы до движения небесных тел, от физиологии зачатия до управления полисом, — но и вскрывает стереотипы мышления, унаследованные позднейшей наукой от Аристотеля. Русскому читателю будет особенно любопытно узнать, что выдвинутая Т. Д. Лысенко эксцентричная теория перерождения пшеницы в рожь и овса в овсюг (судя по всему, оставшаяся неизвестной Леруа — в книге она не упомянута) восходит к воззрениям Теофраста, ученика Аристотеля. Настоящий детектив для историков наук: мог ли малообразованный Лысенко каким-то образом познакомиться с идеей Теофраста или додумался до этого самостоятельно?
Быть может, вопреки намерениям автора, создаваемый им образ Аристотеля постоянно конфликтует с современным представлением о научном мышлении. Аристотелевская природа в первую очередь разумна, она следит за равновесием, как рачительный хозяин, и «ничего излишнего и напрасного не делает». Современному читателю, знающему хотя бы о биоразнообразии бактерий и вирусов, сложно смотреть на мир с этой точки зрения. Безусловно, между рассуждениями Аристотеля о том, что развитие различных частей тела у животных диктуется принципом экономии материи, и современными представлениями эволюционистов о «затратности» тех или иных приспособлений есть параллели. Но Аристотель не эволюционист. Его природа статична, вечна и неизменна. Греки почти додумались до идеи естественного отбора, но Аристотель отверг соображения предшественников.
Вместе с тем мир, сконструированный Аристотелем, чрезвычайно уютен даже для современного сознания: склонность к ложной дилемме «слепая игра случая vs. заботливый разумный план» не так просто преодолеть. Непросто с психологической точки зрения признать, что мир не предназначался специально для того, чтобы мы ели креветку под соусом из авокадо; что у нас, креветки и авокадо — собственные эволюционные истории, разошедшиеся примерно миллиард лет назад, и что спрашивать, почему они разошлись именно так, возможно, вообще не имеет смысла. Куда проще сбежать в теплую ламповую античность под крылышко Аристотелю — и даже биологов не стоит за это осуждать. Во всяком случае, когда биологи со звериной серьезностью рассуждают об эволюционной функции женского оргазма (пример непосредственно из книги Леруа), становится очевидно, что современная наука и в самом деле недалеко ушла от эпохи Аристотеля. Она по-прежнему стремится редуцировать то, чего не понимает, к представлениям обеспеченного горожанина (разумеется, мужчины) о полезности.
Хочется отметить добросовестность переводчицы, разобравшейся в обширной традиции русскоязычных переводов античной литературы; впрочем, несмотря на ее титанический труд, книге не помешал бы редактор-гуманитарий, специализирующийся на истории европейской культуры, потому что временами проскакивают досадные огрехи — например, в Сорбонне XIII в. обнаруживается «артистический факультет» (с. 452–453; разумеется, речь идет о факультете свободных искусств).
Книга снабжена чрезвычайно ценным указателем терминов, которые использованы Аристотелем в греческом оригинале, с расшифровкой и пояснениями. Узнавать, что, например, под кинокефалом философ подразумевал не мифическое существо, а обыкновенного павиана — отдельное увлекательное занятие.