Тени балканского рая
Александр Чанцев — о романе Антона Уткина «Вила Мандалина»
Антон Уткин. Вила Мандалина. М.: ArsisBooks, 2019
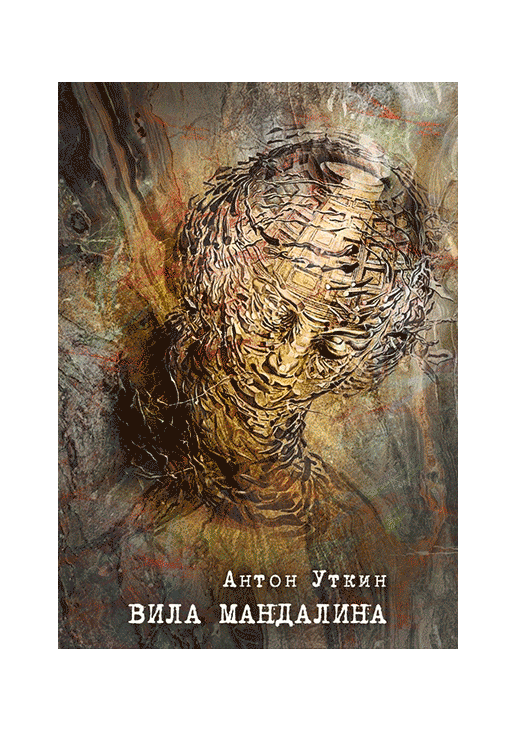 «Вила Мандалина» — очень качественная проза, зависшая (как, возможно, и сознание современного русского интеллигента) между несколькими топосами. Герои романа — не столько пресловутые global Russians, сколько новые лишние люди. Книга повествует об остро современном, прямо сейчас происходящем, но в плане языка и интеллектуальной требовательности апеллирует скорее к классическим образцам российской словесности. И чтобы закончить с апориями: герой потерян и между теми лагерями, на которые без права выбора чего-либо третьего и действительно разумного раскололось наше общество — он презрительно цыкает на так называемых либералов в фейсбуке, но при этом готов каяться перед первым встречным и поперечным за Крым. Но положа руку на сердце, кто из мыслящих, а не идущих в том или ином строю, не соткан сейчас из противоречий?
«Вила Мандалина» — очень качественная проза, зависшая (как, возможно, и сознание современного русского интеллигента) между несколькими топосами. Герои романа — не столько пресловутые global Russians, сколько новые лишние люди. Книга повествует об остро современном, прямо сейчас происходящем, но в плане языка и интеллектуальной требовательности апеллирует скорее к классическим образцам российской словесности. И чтобы закончить с апориями: герой потерян и между теми лагерями, на которые без права выбора чего-либо третьего и действительно разумного раскололось наше общество — он презрительно цыкает на так называемых либералов в фейсбуке, но при этом готов каяться перед первым встречным и поперечным за Крым. Но положа руку на сердце, кто из мыслящих, а не идущих в том или ином строю, не соткан сейчас из противоречий?
Итак, герой романа, на днях вошедшего в шорт-лист Премии имени Фазиля Искандера, живет в собственном домике в Черногории, в небольшом курортном городке. Он средних лет — это важно, потому что становление-взросление его пришлось на время крушения наших государственных императивов и пыль от сноса империи на его плечах видна невооруженным глазом. Он вполне освоился в настоящем, необременительно работая (утверждает, что существует на гонорары, пишет для журналов — и явно темнит, простите, учитывая их расценки и возрастающую склонность к безгонорару), может проводить месяцы в своем раю. Но и во многом обращен к прошлому, то есть память, ностальгия, боль его не отпустили.
Постепенно мы узнаем историю героя — ну, отчасти, насколько позволит он, сдержанный и стоический. Вот его дом из-за пресловутой московской реновации велено снести, его переселить. И — перед нами первая в нашей литературе история о реновации? — он переезжает. Он перебирает старые вещи, оставшиеся еще от бабушки, которые он никак не может выбросить: «Сборы были мучительны. Мебель должны были перевезти муниципальные грузчики, а вот мелкие вещи, сиречь барахло, предстояло перетаскивать самому. Я был волен облегчить себе задачу, попросту бросив весь скопившийся хлам на добычу дворникам. Но как было оставить целую коллекцию шляпок тридцатых годов, оставшихся от бабушки; кобуру от пистолета ТТ из толстой свиной кожи, с которой я, будучи ребенком, носился по двору, воображая себя героем еще не снятого кинофильма; пылесос „Урал“; швейную машинку „Зингер“ с литой неподъемной станиной и рулоны с картами несуществующего уже государства, в котором я увидел свет и гражданином которого считался добрую четверть века. Мне приходилось слышать мнение, будто далекие впечатления с годами становятся отчетливей. Возможно, у кого-то это действительно так, но я не испытывал ничего похожего». Действительно, как выбросить такие сокровища с затонувшего в водах Леты острова?
И как смириться с вырубкой не вишневого сада, но деревьев, посаженных перед домом тобой, твоей бабушкой, соседями? Тут, как в «Бывшей Ленина» Ш. Идиатуллина или в классическом «Прощании с Матерой», появляется мотив своей земли, ее защиты. И мотив этот свойственен отнюдь не только нашим просторам — ему находится печальная рифма в Черногории, где крайне подозрительные личности то хотят отжать дом у нашего героя, то по соседству с ним, убив ночной покой и вырубив столетнюю рощу, возводят особняк для местного сомнительного политика.
Я увлекся болезненной столичной темой, простите, но ведь роман — о Балканах. Их природе, климате, людях, мифах, сказках, нравах, политических и исторических узелках и узлищах, до сих пор еще не развязанных. Практически путеводитель в прозе по отдельно взятому краю.
Героем и действием движут эти самые старинные предания. Нет, он вполне вменяем, остер на язык и глаз, отличается аналитическим складом ума, как пишут в характеристиках. А что в Черногории он попал в психбольницу и пьет иногда изрядно — так это с кем не бывает, так получилось, я не шучу. Как и о том, что он растит и лелеет говорящую (с ним пока нет, но более чуткие индивиды, особенно женского пола, слышали) камелию, а симпатизирует, да что там, с головой влюбляется, — в вилу. Эта такая местная ведьма, древняя хранительница подведомственной ей территории, до посмертного рабства очаровывающая мужчин, суккуб с ангельской душой. Вилой оказывается врач героя из той самой больницы, постоялицей которой она становится в свою очередь. Он спасает ее — просто выкрадывает! Похищает, переодевает и увозит — полным ходом идет сюжет в духе «Пролетая над гнездом кукушки» и «Достучаться до небес».
И тут еще одна апория. Неспешное действие на залитом солнцем курорте таит в себе — как жизнь свои тайны и скелеты в шкафу — настоящий экшн. Вот старый скелет в горах — а вот и труп, совсем новенький. Вот легенды о старинных кладах — а вот клад нового времени, очень зловещий и неприятный, с паспортами тех сербов, что были убиты или попали в лагеря во время печально известных событий, во время распада Югославии.
 Антон Уткин
Антон Уткин
Но если все это и читается подчас как настоящий триллер, то настоян он, как старинная настойка по древним рецептам, на беседах, размышлениях, рефлексиях... Герой много беседует с людьми, будь то местный юный байкер, или его дед-пират, или приехавшие на отдых соплеменники, московский этнограф или страдающий от разбитого сердца делец. И voila — вот истории их жизней, ну опять же настолько, насколько те готовы приоткрыть вуаль за бокалом ракии душной балканской ночью. И это, кстати, большая и приятная неожиданность, ведь после самых разных книг новейшей русскоязычной прозы привыкаешь к тому, что автор — аутист и мегаломан, рассказывать будет под тем или иным именем только о себе. А тут прямо-таки «Герой нашего времени», история Бэлы и Максима Максимыча.
Под стать классической прозе и подача. Беседы ведутся самой высокой интеллектуальной возгонки. Если автор кого-то цитирует — а цитирует он много, Цветаеву и Случевского чаще всего, если говорить об индексе цитируемости, — то загадывает ребусы, шифрует писателей, предлагает угадать цитату по первой строчке. Да и собственный язык «Вилы Мандалины» уступает никак. «В данном случае я охотней предпочел бы объяснения итальянского характера, сделанные одним русским моряком, у которого, листая оставленные им записки, я учусь чистоте русского слога», — скромничает Антон Уткин, но отнюдь не только у моряка. «Не в моих правилах долго себя обманывать: со сладкой тревогой я отдавал себе отчет, что душевный покой мой нарушен. Окно комнаты, где стоит мой покрытый стеклом стол, как раз выходит в проулок. На столе стоит зеленая лампа, под которой в счастливый час пляшут буквы. Горит она почти до утренних сумерек, когда птицы заводят свои песнопения, и, наверное, люди, проходящие по проулку, удивляются, замечая ее тихий свет. Я же невольно прислушиваюсь к шагам этих полуночников, но голоса их развеивают мои надежды». А, каково? Не «чтоб их, так-растак», а — душевный покой!
Язык, как известно, лучше всего сохраняется в изгнании, в эмиграции он остается нетронутым новоязом, а стилистов в последнее время водится много в ближнем и дальнем зарубежье — Лена Элтанг, Шамшад Абдуллаев, Андрей Иванов, Михаил Шишкин. Что-то такое, мнится мне, происходит с писательской речью, когда она становится дорогим тайничком, человек каждый день сталкивается с другим языком, они стыкуются, влияют друг на друга... Впрочем, стиль Уткина вообще очень хорош, без всяких этих рассуждений и без дураков. Он необычайно свеж, как воздух, предположим заочно, его приморской обители. «Обитатели детского сада бросали мне в открытое окно голоса до того звонкие, что вполне могли расколотить стекла», «в моем районе ночь лежала, как убитая, и мокрый асфальт точно гильзами был усеян палыми древесными листами, прильнувшими к нему намертво», «непроглядная ночь ломилась в закругленные окна нашего летящего змея, и я думал, что Пушкин все-таки выказал к Радищеву несправедливость».
Про Пушкиным обиженного Радищева автор, едущий в Питер на вручение «Нацбеста» и вспоминающий «Путешествие из Петербурга в Москву», расскажет вам сам. Как и о многом другом. Ведь вещи и сад между домами-хрущобами не сохранить, не отвоевать у времени, но стойкая армия слов хоть ненадолго, но укроет их от забвения. «Не будет больше такой любви. Не будет таких забав. Не будут больше крылатые кони играть у ночного озера. Не будем мы, рассеянные по свету, кружиться в беспечном коло... Не будет этого, и не останется ничего. Засохнут дубы, под которыми мы мечтали, или их срубят, чтобы очистить место для виллы. И останутся только слова».