Театр вместо прозы и любовь к маленькому человеку
Работы выпускников Школы литературной критики в Ясной Поляне
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Андрей Мягков
Орфография и пунктуация
Иван Шипнигов. Стрим. М.: Livebook, 2021
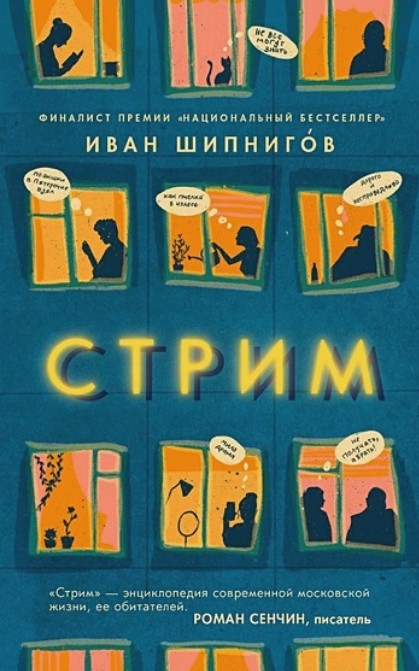 Алексей — младший бухгалтер 25 лет от роду; в свободное от бухгалтерии время он сортирует монетки и анализирует цены в продуктовых магазинах — да и вообще трепетно рефлексирует по поводу любых трат, которые обычно резюмирует как «дорого». Его соседка по съемной квартире, 23-летняя Наташа, приехала — а зачем еще переезжают из Краснодара — покорять столицу; работает консультантом в обувном и сканирует окружающую действительность на предмет мужчины, который покроет ее вполне адекватные материальные запросы — а если не будет скупиться на красненький MINI Cooper, то совсем хорошо. Вот-вот сюжет сведет их обоих с Настей, филологом на пороге 30-летия, которую родители изо всех сил пытаются переселить в съемное жилье; Настя, как и полагается филологу, интеллигентная, слегка высокомерная девушка, шагающая по жизни с бюстом Достоевского, абонементом в филармонию и, конечно, в очках. Еще страницы романа топчет Владимир Георгиевич, добрый, хотя и не без хитринки, резонерствующий пенсионер, за которым в надежде заполучить квартиру потешно ухаживает Алексей. Есть здесь и несколько совсем уж второстепенных персонажей, которые совместно с нашей четверкой исповедуются в формате монологов: как если бы каждый из них вел онлайн-дневник, где без всякого монтажа рассказывал о своей жизни.
Алексей — младший бухгалтер 25 лет от роду; в свободное от бухгалтерии время он сортирует монетки и анализирует цены в продуктовых магазинах — да и вообще трепетно рефлексирует по поводу любых трат, которые обычно резюмирует как «дорого». Его соседка по съемной квартире, 23-летняя Наташа, приехала — а зачем еще переезжают из Краснодара — покорять столицу; работает консультантом в обувном и сканирует окружающую действительность на предмет мужчины, который покроет ее вполне адекватные материальные запросы — а если не будет скупиться на красненький MINI Cooper, то совсем хорошо. Вот-вот сюжет сведет их обоих с Настей, филологом на пороге 30-летия, которую родители изо всех сил пытаются переселить в съемное жилье; Настя, как и полагается филологу, интеллигентная, слегка высокомерная девушка, шагающая по жизни с бюстом Достоевского, абонементом в филармонию и, конечно, в очках. Еще страницы романа топчет Владимир Георгиевич, добрый, хотя и не без хитринки, резонерствующий пенсионер, за которым в надежде заполучить квартиру потешно ухаживает Алексей. Есть здесь и несколько совсем уж второстепенных персонажей, которые совместно с нашей четверкой исповедуются в формате монологов: как если бы каждый из них вел онлайн-дневник, где без всякого монтажа рассказывал о своей жизни.
Сперва хочется запустить в комнату для допросов хорошего полицейского. Который поправит значок, улыбнется и скажет, что дебютный роман Ивана Шипнигова, еще до «Ясной Поляны» успевший отметиться в финалах «Нацбеста» и «НОСа», — предельно обаятельная книга. Обаятельная в лучших традициях русской классики — с забавными, нелепыми, по-чеховски да по-гоголевски, будто понарошку несчастными героями, за которых и неловко, и грустно, и тепло. Плюс Шипнигов действительно старательно поиграл в речевое лего: все персонажи «говорят» по-своему, у них есть любимые словечки, лексические привычки, и даже правила орфографии-пунктуации они игнорируют особым, только им свойственным образом. В какой-то момент это и вовсе становится приемом: не слишком-то грамотный Алексей, прилежно иллюстрируя перемены, с ним происходящие, начинает на глазах овладевать грамотой, словно герой «Цветов для Элджернона».
На этом месте хороший полицейский выходит за кофе, и в комнату проскальзывает плохой — номер значка у него заклеен монтажным скотчем, из-под расстегнутой формы виднеется футболка с Захаром Прилепиным. Он смачно плюет на пол, тушит бычок об обложку «Стрима» и принимается зачитывать обвинения.
Во-первых, в этом тексте не хватает прозы — не в каком-то метафизическом смысле, который подразумевают, когда горячо шепчут «вещество прозы», а в самом что ни на есть практическом. «Стрим» — это ладный набор монологов, организованный именно что по законам драматургии. Его бытовой сюжет строится на цепочке внятных событий, как по навигатору ведущих к кульминации, которую персонажи встретят совсем не такими, как на первых страницах, — ну, герой должен меняться, это во всех учебниках пишут. Движущие сюжет события при этом предсказуемо вытекают из конфликтов между героями, которые в свою очередь рождаются из кристально ясных противоречий, изначально заложенных в их характеры. Проза легко может уходить от такой машинерии, надрывать по краю неповоротливую сюжетную структуру из причин и следствий, впуская в нее воздух, песню, да все что вздумается — но Шипнигов этим абсолютно не пользуется, собирая из россыпи своих монологов не мозаичную жизнь, а душноватую театральную постановку, в которой все траектории прочерчены несмывающимся маркером.
Во-вторых, слово «характер» — это, конечно, преувеличение; здесь орудуют не характеры, а типы, которые нарочито ярко подчеркивает выданный героям реквизит: ботаник — значит непременно в очках, чтобы вы с первого взгляда узнали. То же и с речью героев — кропотливость, с которой она собрана, вскоре начинает высвечивать линии сборки, а театральность, с которой все это «произносится», заколачивает в остатки естественности последний кривоватый гвоздь: мсье, да полно вам притворяться французом, повторяя через слово «chignon», у вас парик набок сполз.
Ну и в-третьих, полезная на бумаге структура липовых вербатимов накрывает роман тенью формального приема, и никакая жизнь в этой тени не растет. Даже занятно, что в литературу пролезла проблема, свойственная видеоиграм: когда нужно оправдывать интерфейс, вписывая его в происходящее в игре так, чтобы он казался частью происходящего. «Стрим» создает ровно такое ощущение — притворяющихся настоящими придуманных монологов, непонятно почему и кем записанных и скомпонованных именно в таком виде — где герои все это пишут? а может, вообще говорят? а если говорят, то причем тут орфография и пунктуация? Обычная, в общем-то, театральная условность — но мы не в театре, а в прозе.
«Это совсем не к тому, — говорит плохой полицейский, поглаживая табельное, — что прозой нужно заниматься только в миссионерской; пусть расцветают сто цветов. Просто хотелось бы, чтобы это были именно цветы, а не пластиковые гвозди...»
Открывается дверь, и в комнату бочком залезает хороший полицейский: в руках у него две стаканчика с кофе, под мышкой — пакет из кондитерской. «Кофемашина сломалась», — объясняется он и удивленно замечает своего коллегу. Тот примиряюще поднимает руки и выходит — а хороший полицейский придвигает стул, достает из пакета ватрушку и начинает: мол, плохой полицейский в общем-то прав, хоть и резковат. Но Шипнигову в «Стриме» удалось кое-что, из-за чего роман, несмотря на все претензии, скорее получился, чем нет: удалось от первой до последней страницы испытывать к своим героям какую-то болезненную даже нежность. Безумно сложно, когда пишешь об условном «маленьком человеке», не швыряться взглядами свысока и не попинывать героя между строк; кроме шуток, мало каким писателям это удается. А у Шипнигова тут одна нежность — и потому составим протокол об административном и по домам.
* * *
Иван Родионов
«Посмотрите на них!»
Анастасия Астафьева. Для особого случая. Вологда: ИП Киселев А. В., 2020
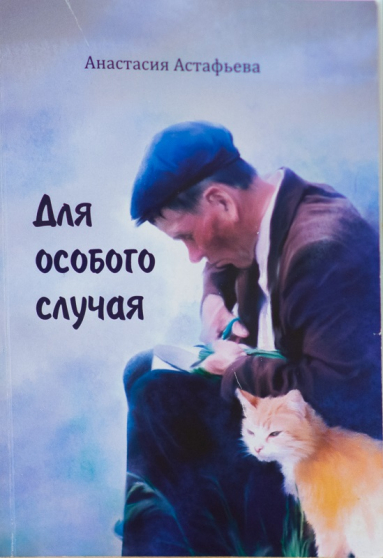 Роман Сенчин лет десять — пятнадцать назад довел тему постсоветской деревни в русской литературе до некоего предела (роман «Елтышевы», ранняя малая проза). После него о селе писать сложно: скатишься или в гротеск, или в повторы, или в лубок. Оттого новых сколько-нибудь известных «деревенщиков» почти нет. Но некоторые писатели дерзают — в основном те, кому нечего терять.
Роман Сенчин лет десять — пятнадцать назад довел тему постсоветской деревни в русской литературе до некоего предела (роман «Елтышевы», ранняя малая проза). После него о селе писать сложно: скатишься или в гротеск, или в повторы, или в лубок. Оттого новых сколько-нибудь известных «деревенщиков» почти нет. Но некоторые писатели дерзают — в основном те, кому нечего терять.
«Для особого случая» Анастасии Астафьевой — как раз такой случай, простите за тавтологию. Этот сборник — вызывающе «нетрендовый». Никаких травм-рефлексий-самоковыряний. Автор, простите за пафос, с народом — там, где он, к несчастью, есть. При этом в сборнике нет и страшненькой хтони и сгущения черного — краски книги тусклы, а кой-где она выцвела и облупилась.
Потому, видимо, и напечатан он не в модном импринте, а в Вологде, неким ИП Киселевым. ИП Киселев — однозначно хороший человек.
Это мир современной русской деревни. Мир, где лучшая доярка страны возвращается из Москвы к мужу-пропойце. Где многодетный отец собирает клюкву по непролазным топям. Где одна женщина подозревает измену мужа, и ее разбивает инсульт, а другая женщина спивается, соприкоснувшись с чужой смертью. Объединяет героев главное: они, что называется, не справляются. Не вывозят.
«И такое это было счастье, такая невыносимая легкость, что она сразу после похорон слегла с гипертоническим кризом. Не справилась со своей свободой».
Чернуха, пресловутый трехкопеечный артхаус, снятый на трясущуюся камеру? Ничего подобного. Русский фатализм — это когда всякое потенциальное изменение таит в себе опасность. Зона комфорта, в которой этого самого комфорта ровно столько, чтоб хватило на «не умереть прямо сейчас».
Главный недостаток книги — автор подчас не хочет или не умеет остановиться. И докручивает истории до мелодраматизма, до сериала из тех, что до сих пор показывают по федеральным каналам. Например, в одном из рассказов муж давно оставил загулявшую жену. Он живет в маленьком городке, выбирается в Москву на съемки телешоу... И конечно, совершенно случайно встречает свою бывшую, уже опустившуюся окончательно, на вокзале.
Пишет Астафьева просто, но порой зачем-то сбивается на кажущиеся стилизацией просторечия в духе не было сладу или конца-краю не видно. Оттого возникает ощущение, будто в рассказчика периодически вселяется один из его героев.
Лучшее, что есть в сборнике, — персонажи. Герои Астафьевой абсолютно неадаптивны. И существование их запредельно хрупко. Кажется, лучшее, что можно с ними сделать, — не нарушать их покоя. Писательница это понимает — и будто прячет своих героев от читателей, не выворачивает их души перед нами. Так она защищает их — ей за них больно. Она лишь просит: «Посмотрите на них!»
Эти герои — настоящие, и таких людей в нашей стране много. К сожалению, голос им писатели дают редко.
Неизвестно, умеет ли улыбаться Роман Сенчин, но, если бы он прочел книгу рассказов Анастасии Астафьевой, наверняка пару раз одобрительно хмыкнул бы.