Танец под присмотром чуткого Бога: как энтропия и эволюция определяют судьбу Вселенной
Валерий Шлыков — о книге физика Брайана Грина
Если энтропия растет, а материя неотвратимо движется к деградации и разрушению, то как во Вселенной в принципе оказался возможен порядок, жизнь, человеческий разум, в конце концов? Это очень хороший вопрос — более того, по мнению известного физика и популяризатора науки Брайана Грина, это и есть основной вопрос мироздания. Чтобы ответить на него, придется вооружиться поистине «божественной» оптикой и приготовиться к путешествию настолько долгому, что и вообразить невозможно. Грин предпринял такую попытку в своей новой книге «До конца времен. Сознание, материя и поиски смысла в меняющей Вселенной», которую Валерий Шлыков изучил в рамках совместного проекта «Горького» и премии «Просветитель».
Брайан Грин. До конца времен. Сознание, материя и поиски смысла в меняющейся Вселенной. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. Перевод с английского Натальи Лисовой. Содержание
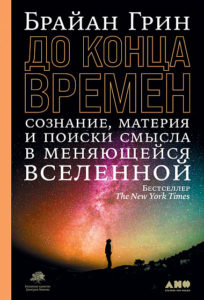 Брайан Грин — профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке и один из ведущих разработчиков головокружительной струнной теории, которую никто до конца не понимает. На русский язык переведены все его научно-популярные книги: «Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории», «Ткань космоса. Пространство, время и текстура реальности», «Скрытая реальность. Параллельные миры и глубинные законы космоса» и вот теперь «До конца времен. Сознание, материя и поиски смысла в меняющейся Вселенной». Надо признать, что у Грина, помимо любви к длинным названиям, действительно есть талант писателя. У него ровный, хороший слог, он умеет доступно рассказывать об очень сложных вещах, владеет богатым арсеналом аналогий из привычного мира, при этом не злоупотребляет анекдотами и примерами из массовой культуры, как это любит делать, например, Митио Каку, частенько мигрирующий куда-то в сторону голливудской фантастики. Грин более высоколоб. Если уж иллюстрировать идеи, то цитатами из Сартра и Набокова, а не из «Супермена». Еще одна приятная особенность нашего автора: он не повторяется. Посвятив любимым струнам «Элегантную Вселенную» и «Ткань космоса», в новейшей книге он ни словом о них не обмолвился! (Хотя такое молчание может означать и то, что в этом направлении, к сожалению, особых подвижек за последние годы не было.) Вместо старых путей Грин безбоязненно осваивает новые: теперь он ловко объединяет не квантовую теорию с гравитацией, а теорию сознания, религию, язык, искусство и эволюцию. Неудивительно, что на это ему понадобилось более пятисот страниц!
Брайан Грин — профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке и один из ведущих разработчиков головокружительной струнной теории, которую никто до конца не понимает. На русский язык переведены все его научно-популярные книги: «Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории», «Ткань космоса. Пространство, время и текстура реальности», «Скрытая реальность. Параллельные миры и глубинные законы космоса» и вот теперь «До конца времен. Сознание, материя и поиски смысла в меняющейся Вселенной». Надо признать, что у Грина, помимо любви к длинным названиям, действительно есть талант писателя. У него ровный, хороший слог, он умеет доступно рассказывать об очень сложных вещах, владеет богатым арсеналом аналогий из привычного мира, при этом не злоупотребляет анекдотами и примерами из массовой культуры, как это любит делать, например, Митио Каку, частенько мигрирующий куда-то в сторону голливудской фантастики. Грин более высоколоб. Если уж иллюстрировать идеи, то цитатами из Сартра и Набокова, а не из «Супермена». Еще одна приятная особенность нашего автора: он не повторяется. Посвятив любимым струнам «Элегантную Вселенную» и «Ткань космоса», в новейшей книге он ни словом о них не обмолвился! (Хотя такое молчание может означать и то, что в этом направлении, к сожалению, особых подвижек за последние годы не было.) Вместо старых путей Грин безбоязненно осваивает новые: теперь он ловко объединяет не квантовую теорию с гравитацией, а теорию сознания, религию, язык, искусство и эволюцию. Неудивительно, что на это ему понадобилось более пятисот страниц!
Основной вопрос Вселенной, по версии Грина, звучит так: почему материя, подчиняясь второму началу термодинамики и необратимо двигаясь от порядка к беспорядку, разрушению и деградации, способна порождать на этом пути все более упорядоченные структуры, от звезд и галактик до живых организмов и разумных мозгов? Иными словами, как сочетаются энтропия и эволюция? Как возможны мы, люди, и какое будущее нас ждет? Для ответа на эти вопросы Грину нужна поистине «божественная» перспектива: он предлагает совершить путешествие «от начала времени до чего-то похожего на его конец», то есть на умопомрачительные триллионы триллионов триллионов триллионов... лет. Только с такой «смотровой площадки» (Грин пользуется образом небоскреба, «каждый этаж которого представляет собой период времени в десять раз длиннее предыдущего») нам открывается бесконечный танец, в котором неустанно кружатся два космических партнера — энтропия и эволюция, — «энтропийный тустеп». Он и есть ответ на загадку Вселенной.
Суть энтропийного тустепа можно неплохо выразить словами старой одесской песни «Школа танцев Соломона Пляра»: «Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад». «Шаг вперед» делает эволюция, «два назад» отступает энтропия. Описывая механику этого процесса, Грин замечает, что ничего подобного бы не было, если бы Вселенная не началась с Большого взрыва — «стартовой точки с чрезвычайно низкой энтропией», то есть высокоупорядоченного состояния, запас которого далеко не исчерпан. В качестве объяснения этой странной с точки зрения термодинамики ситуации Грин предлагает инфляционную теорию, разработанную Аланом Гутом. По расчетам последнего выходило, что если «крохотная область пространства заполнена определенным типом энергетического поля и энергия в этой области оказывается равномерно распределенной, как пар в сауне, то отталкивающая гравитация тут же вызовет взрывное расширение пространства до размеров наблюдаемой Вселенной, если не намного больших». Иными словами, наша Вселенная — случайно вздувшийся пузырь порядка в океане вечного инфляционного хаоса; поскольку природа берет свое, он неминуемо вернется в материнское лоно, однако прежде может испытать немало волнительных приключений. Это ему гарантирует гравитация — но теперь уже притягивающая.
На примере эволюции звезды Грин доходчиво и наглядно объясняет одновременно и физику звездных процессов, и смысл энтропийного тустепа. Кажется, что звезда — это довольно упорядоченная система, которая может оставаться в таком низкоэнтропийном качестве миллиарды лет. Не тут-то было. Гравитация сжимает звезду, действительно увеличивая ее упорядоченность, но это же сжатие повышает температуру, что ведет к росту энтропии. В результате динамического взаимодействия между все более разогревающимся ядром и все более охлаждающейся оболочкой побеждает именно энтропия: оболочка накапливает хаоса больше, чем ядро — порядка (Грин уверяет, что тому есть соответствующее математическое подтверждение). Сбрасывая лишнюю энергию в космос в виде фотонного потока, звезда тем самым увеличивает энтропию окружающей среды, с лихвой компенсируя рост упорядоченности в своих недрах из-за ядерного синтеза. Звезда делает шаг вперед, Вселенная — два шага назад. Танец продолжается.
Удивительно, но ровно тот же механизм (не ядерного синтеза, а роста суммарной энтропии) свойственен и жизни (какой мы ее знаем). Здесь Грин опирается на идеи нобелевского лауреата Ильи Пригожина, который в свое время показал, как возможны диссипативные структуры — особые молекулярные образования, способные «использовать стабильный поток энергии извне для поддержания и даже усиления своей упорядоченной формы и сбрасывать вырожденную энергию обратно в окружающую среду». При этом «полная энтропия, с учетом среды, все равно возрастает». Живая клетка — наряду с лазером и нейронными сетями — и есть такая диссипативная структура. Но является ли таковой сознание?
Несколько глав Грин посвящает наукам вне его прямой компетенции: теории сознания, а также происхождению и назначению языка, религии и искусства. Поэтому эти главы носят компилятивный характер. Однако благодаря умению автора кратко и толково излагать суть дела скучать не придется и здесь. Грин признает, что в этих областях все не так радужно, как в физике, — слишком сложны объекты исследования, — поэтому дает высказаться сторонникам различных позиций. Так, по части сознания он «конспектирует» и «панпсихизм» Дэвида Чалмерса, и теорию интегрированной информации Джулио Тонони, и идею о «схематическом мысленном образе себя» Майкла Грациано. В лингвистической главе собраны гипотезы Гая Дойчера (язык произошел от сюсюканья матери), Робина Данбара (социальный груминг), Дэниела Дора (управление воображением), Стивена Пинкера (язык как тренажер разума и интуиции) и других. Разбирая адаптивную роль религии, Грин упоминает теории «могущественного свидетеля» Джесси Беринга, «религии в нагрузку» Паскаля Буайе, «религиозной сплоченности» Эмиля Дюркгейма, «отрицания смерти» Эрнеста Беккера и т. д. Все это, так или иначе, способствует росту нашей организации и позволяет эволюции отвоевать у энтропии приличные территории. К сожалению, не навсегда.
Тут стоит заметить, что Грин не боится вызвать огонь на себя, делясь с читателями собственными предпочтениями. И действительно, его выбор почти всегда хочется критиковать, поскольку он, по признанию самого автора, тяготеет к физикализму. Например, свободу воли он считает иллюзией, потому что истолковывает ее только как «свободу от физических законов», хотя чуть далее и пишет о «свободе поведения». Непонятно, что мешает ему быть свободным в рамках физических законов, которые вполне могут быть индифферентны в каких-то направлениях — те самые «две шаги налево, две шаги направо». Очень спорно Грин высказывается и на тему ответственности за свои действия: если «я» — это всего лишь «хитроумная химическая и биологическая конфигурация физических частиц, реагирующая на происходящее характерным для себя способом», то вот так легко возлагать на нее полную ответственность может только тот, чьей «конфигурации» изначально повезло быть в ладах с законом; в этом смысле более последователен нейробиолог Дик Свааб. Он тоже физикалист, однако выступает за ограничение социальной ответственности для тех, чья «конфигурация» сложилась не по стандартам большинства (пусть даже это и вызовет хаос в юридической системе, на что общество, в основном состоящее из Гринов, разумеется, не пойдет).
В последних главах Грин вновь ступает на родную почву. Предположив, что разум никогда не достигнет космологического масштаба и не научится менять реальность по своему усмотрению (хотя кто знает?), он поднимается по виртуальному небоскребу все выше и выше, чтобы разглядеть последние шаги энтропийного тустепа и узнать, за кем останется партия. Кажется, не за эволюцией. Через 1014 лет потухнет большинство звезд, через 1030 лет галактики перестанут существовать как целое, а через 1038 лет, возможно, распадутся протоны, положив конец всякой организованной материи во Вселенной. Сможет ли после этого гипотетический Мыслитель хоть как-то существовать? Даже если он сумеет собрать себя из одних электронов и нейтрино, ему не обойти второе начало термодинамики: энтропию нужно куда-то сбрасывать. Делать это он сможет лишь до тех пор, пока Вселенная не остынет до минимального значения температуры космологического горизонта в 10-30 К — попытка думать дальше приведет к тому, что Мыслитель сам себя «изжарит». Таким образом, всем, кто откладывал важные мысли на потом, следует поторопиться: не успеете оглянуться, как даже отведенные физикой 1050 лет пройдут. Tempus, как говорится, fugit.
Впрочем, у всех нас имеется еще одна лазейка, о которой Грин, правда, отзывается чуть ли не с отвращением как о чем-то омерзительном, попирающем все нормы приличия, поистине лавкрафтианском. Речь идет о т. н. больцмановских мозгах — гипотетической возможности для элементарных частиц спонтанно собраться в высокоупорядоченную конфигурацию, в точности соответствующую любому, даже очень сложному мозгу. Это не противоречит теории вероятности, просто требует непредставимо долгого ожидания — порядка 101068 лет. Зато вообразите, какой крик ужаса испустит этот мозг, осознав свое незавидное положение, перед тем как распасться! Таков пробирающий до дрожи финал мировой эволюции.
И все же Грин не хочет заканчивать космическим ужастиком. Мысленное путешествие сквозь бездны лет, напротив, вызывает у него чувство, схожее с религиозным благоговением. Авторским time-trip мы и завершим нашу рецензию, оставив читателя наедине с вечностью.
«Нет нужды петь мантры, и поза лотоса тоже опциональна, но, если вы отыщете тихое местечко и позволите своему сознанию медленно и свободно проплыть вдоль космической шкалы времени, пройдя через нашу эпоху и дальше, мимо эпохи далеких удаляющихся галактик, мимо эпохи величественных планетных систем, мимо эпохи грациозно закрученных галактик, мимо эпохи выгоревших звезд и блуждающих планет, мимо эпохи тлеющих и исчезающих черных дыр и дальше, к холодному, темному, почти пустому, но потенциально бесконечному простору — где о том, что мы когда-то существовали, свидетельствует лишь отдельная частица, расположенная здесь, а не там, или другая отдельная частица, движущаяся туда, а не сюда, — и если вы хоть сколько-нибудь похожи на меня и позволите этой картине улечься в вашем сознании, тот факт, что мы забрались фантастически далеко в будущее, едва ли сильно ослабит потрясающее, проникнутое благоговением чувство, которое поднимается в груди».