Так говорил Спиноза
Шесть новинок, заслуживающих вашего внимания
 Евгений Штейнер. Что такое хорошо: Идеология и искусство в раннесоветской детской книге. М.: Новое литературное обозрение, 2019
Евгений Штейнер. Что такое хорошо: Идеология и искусство в раннесоветской детской книге. М.: Новое литературное обозрение, 2019
Если детство — это пространство, где принято искать отмычки от индивидуального бессознательного, то логично предположить, что детская книга — благодатный материал для поиска ключей к бессознательному эпохи. Евгений Штейнер демонстрирует плодотворность этой гипотезы, разбирая, как в советской детской книге 1920-х — начала 1930-х происходила, пользуясь выражением Николая Бухарина, «обработка человеческого материала» (по существу, весьма противоречивая и далекая от идеологической однозначности). Книга представляет собой значительную доработку издания 2002 года, выходившего под названием «Авангард и построение нового человека». Новый текст составляет треть общего объема, ощутимо вырос ссылочный аппарат и иллюстративный материал, увеличившийся в первую очередь за счет малоизвестных работ.
«Странно, ей-богу, — то „наш паровоз лети-лети”, и вдруг „трах! и все полетело вдребезги”. Здесь уместно снова вспомнить уже упоминавшийся выше тезис о наличии архаических стереотипов в авангардистском мироощущении и рассмотреть эту проблему подробнее.
Можно выдвинуть предположение, граничащее с уверенностью, что в советской, а ранее — в досоветской, российско-интеллигентской, не говоря уже о крестьянской, ментальности паровоз в конечном счете связывался с разрушением и смертью. Как известно, железная дорога в России начиналась с панического нежелания народа пользоваться этим средством передвижения, из-за чего дорогу приходилось опробовать на солдатах. Еще Белинский не без восхищения сравнивал „героя нашего времени” Печорина с паровозом, который давит всех, кто попадается у него на пути. Из стереотипных текстов о чугунке сразу вспоминается Некрасов, который, взявшись описывать железную дорогу, первым делом выделяет следующее:
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Косточки русские оказываются совершенно необходимой основой железной дороги и прогресса, ибо они
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе».
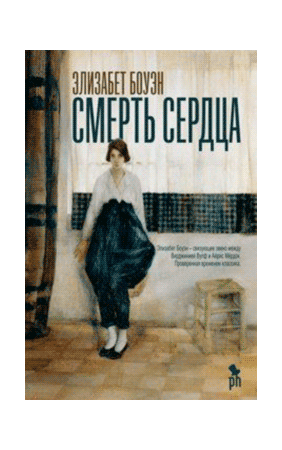 Элизабет Боуэн. Смерть сердца. М.: Фантом Пресс, 2019. Перевод с английского Анастасии Завозовой
Элизабет Боуэн. Смерть сердца. М.: Фантом Пресс, 2019. Перевод с английского Анастасии Завозовой
Впервые на русском выходит роман малоизвестной у нас писательницы из круга Вирджинии Вульф (ее ближайшей подруги). Издатели характеризуют книги Элизабет Боуэн, чьи сочинения крепко встроены в корпус британской классики, как связующее звено между модернизмом начала XX века и психологическими романами его второй половины. Итог взросления невинной юной Порции, которая попадает в двуличную атмосферу светского Лондона, можно предугадать по названию романа. Сама автор была против того, чтобы «Смерть сердца» сводили к трагедии взросления как единомоментной инициации, указывая, что речь скорее о трагедии прогрессирующего увядания, в которое погружены «взрослые» герои книги.
«Эдди с закаменевшим лицом поднял позабытые увядшие маргаритки, переломил их стебельки пополам и засунул прямиком в корзину для бумаг. Он осмотрел комнату, словно пытаясь понять, что тут еще не на своем месте, затем его совершенно не изменившийся, совершенно нечеловеческий взгляд вернулся к Порции и остановился на ее фигурке.
— Сейчас мне уж точно так кажется, — ответил он.
Порция нагнулась за шляпкой. Только чириканье дурацких хромированных часов да безостановочно звонивший где-то внизу телефон нарушали тишину, пока Порция надевала шляпку. Ей пришлось отложить письмо Анны, которое она, сама того не сознавая, все это время держала в руках. Она встала, положила его на стол — и невидящие глаза Эдди тотчас же впились в него.
— Ой, — сказала она, — только у меня совсем нет денег. Одолжишь мне пять шиллингов?
— Тебе не нужно столько денег, чтобы добраться домой».
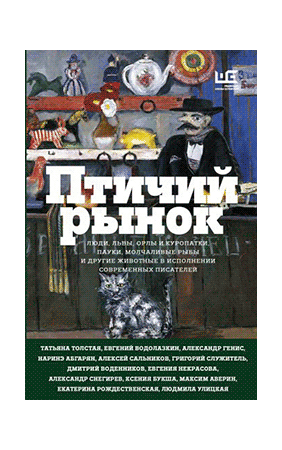 Птичий рынок [рассказы] / Составители Е. Шубина, А. Шлыкова. М.: Издательство АСТ, 2019
Птичий рынок [рассказы] / Составители Е. Шубина, А. Шлыкова. М.: Издательство АСТ, 2019
Издание примечательно по меньшей мере по двум причинам. Во-первых, это удобный способ оперативно и одним махом ознакомиться с пейзажем, так сказать, актуальной отечественной беллетристики (по крайней мере в ее «дневной», мейнстримовой части) в диапазоне от Романа Сенчина до Татьяны Толстой. А во-вторых, сделать это с реверансом в сторону модной «нечеловеческой» перспективы повествования: сборник тридцати семи российских рассказов публикуется с честным подзаголовком «Люди, львы, орлы и куропатки, пауки, молчаливые рыбы и другие животные в исполнении современных писателей».
«Никита поухмылялся, но больше в козла ничем не кидал. Да и обзывать перестал. А Гордей на другой день принес козлу печеньку, и тот ее жадно съел. Потом сказал:
— М-ме-е-е!
— Вкусная?
— Ммме-е-е-е!
— Я завтра еще принесу...
Странно, но о маме Гордей вспоминал всё реже. Нет, он помнил о ней, но вот так, чтобы хотелось заплакать, не вспоминал.
Козлу он про маму не рассказывал. Расскажет, и, может, не то что надо. Только хуже сделает... Решил: мама приедет и сама все увидит. И что-нибудь произойдет».
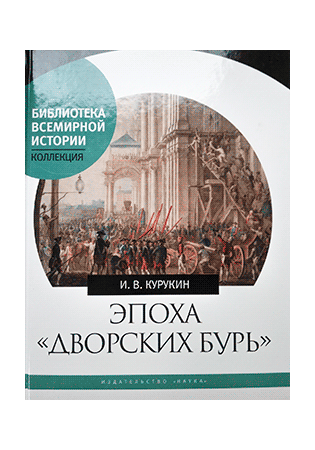 Игорь Курукин. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России (1725–1762 гг.). М.: Наука, 2019
Игорь Курукин. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России (1725–1762 гг.). М.: Наука, 2019
Переиздание фундаментального исследования эпохи дворцовых переворотов в Российской империи, впервые увидевшего свет в 2003 году. Автор во всех деталях фиксирует, как после травматических реформ Петра I «дворские бури» институционализировались в качестве специфического способа выстраивать баланс между интересами самодержавия и аристократических элит. Закономерным образом особое внимание фокусируется на силовых играх с участием первых лиц «дворянской корпорации», т. е. офицеров императорской гвардии.
«Императора могли спасти либо бросок в Кронштадтскую крепость, либо следование совету опытного Миниха: лично „явиться перед народом и гвардией, указать им на свое происхождение и право, спросить о причине их неудовольствия и обещать всякое удовлетворение”. Тогда, да и позднее, явление монарха — как, например, Николая I на площади перед мятежной толпой в 1831 г. — могло изменить ситуацию. Но на последнее Петр не был способен, а на первое решился только к ночи. Однако к тому времени прибывший в Кронштадт адмирал Талызин уже привел моряков и гарнизон крепости к присяге Екатерине и выдал им по „порционной чарке”. Приплывший со свитой Петр III после двукратной попытки высадиться вынужден был отправиться в 3 часа ночи обратно в Ораниенбаум».
 Ян Байтлик. Типомания. М.: Ад Маргинем, 2019
Ян Байтлик. Типомания. М.: Ад Маргинем, 2019
Необычная книга-раскраска польского иллюстратора заинтересует не только и не столько тех, кто всерьез собирается пойти учиться на художника-шрифтовика, сколько детей, склонных находить веселое в серьезном — то есть потенциально всех детей вообще. Помимо развлекательной нагрузки «Типомания» несет ценность дидактическую: автор помогает увидеть буквы практически во всем, что нас окружает, и таким образом учит пониманию, что такая абстрактная, казалось бы, сущность укоренена в самой что ни на есть грубой жизненной конкретике.
«Какая грязища! Соедини кляксы так, чтобы получились буквы».
 Лоран Бине. Седьмая функция языка. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. Перевод с французского Анастасии Захаревич
Лоран Бине. Седьмая функция языка. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. Перевод с французского Анастасии Захаревич
Зачин: после встречи с претендентом на президентский пост Франсуа Миттераном философа Ролана Барта (как в жизни) сбивает машина. В дело включается полиция — под подозрением в убийстве ходят коллеги покойника по цеху, от Мишеля Фуко до Юлии Кристевой. На горизонте возникает тайная рукопись Романа Якобсона о магической функции языка, которую якобы ищут убийцы. Гибридизируя Дэна Брауна и пособия «Постструктурализм для чайников», Лоран Бине добивается выдающихся результатов. С одной стороны, в отличие от Брауна, он прекрасно разбирается в том, о чем пишет, а с другой — его смешно читать (опять же, в отличие от Брауна) вне зависимости от того, какие у вас отношения с эпистемой и нулевой степенью письма.
«Кристева сидит на траве между двумя парнями. И говорит, ласково трепля их шевелюры: „I love America. You are so ingenuous, boys”. Один из этих двоих пытается поцеловать еев шею. Она со смехом отталкивает его. Второй шепчет ей на ухо: „You mean «genuine», right?”
Кристева негромко прыскает в ответ. И чувствует, как по ее беличьему телу проходит электрическая дрожь. Напротив них еще один студент докручивает и запаливает косяк. В воздухе распространяется приятный запах травки. После нескольких затяжек у Кристевой слегка кружится голова, и она с поучающей сдержанностью произносит: „Как говорил Спиноза, отрицание есть определение”. У трех уже-не-хиппи-но-еще-не-нью-вэйв восторг и веселье: „Wow, say it again! What did Spinoza say?”»