Святой Шанин и порочный Гибер: пять книг недели
Главные новинки по мнению «Горького»
История жизни Теодора Шанина, незаслуженно забытые советские историки, поток сладострастия от Эрве Гибера, парадоксы дизайна и третий том дневников Константина Сомова. Иван Напреенко — о главных книжных новинках этой недели.
Александр Архангельский. Несогласный Теодор. История жизни Теодора Шанина, рассказанная им самим. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020
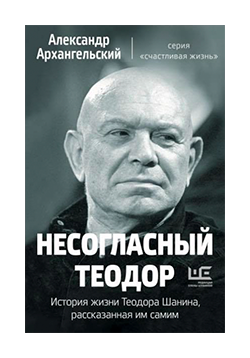
Книга выросла из огромного интервью для «Кольты», которое знаменитый социолог, основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук дал Александру Архангельскому. Не нужно быть социологом и выпускником Шанинки, чтобы склониться перед масштабом личности, открывающейся в прямой речи на этих страницах, личности человека, к которому, судя по всему, без всяких гипербол применим эпитет «святой». Шанин не просто пропустил сквозь себя весь XX век (и первые десятилетия XXI) со всеми его ужасами, он прожил его смело, деятельно и бескомпромиссно, совершая то, что считал правильным ради блага других.
Как известно, люди делятся на два типа. Про одних можно сказать «что жизнь сделала с человеком», про других — «что человек сделал с жизнью», и Теодор, безусловно, относится ко второй, вдохновляющей категории.
«В войне за независимость мы воевали чаще ночью, а днем приходили в себя; здесь, наоборот, воевали скорее днем, а вечером возвращались в лагерь. Пили свой чай, ели, спали. Утром уходили обратно в пустыню, ловить пленных, и возвращались к ночи. Как-то, вернувшись, я подошел к полевой кухне налить чаю. Было холодно до чертиков; зимой пустыня вообще холодное место, дует зверски. Возле кухни толпились солдаты, и я услышал разговор о том, что всех этих арабушек надо убивать. Чего с ними цацкаются, в плен берут, ставят на довольствие. Я вмешался. Сказал громко — а в пустыне голос далеко слышен:
— Надо избить идиотов, которые убивают пленных. Им что, хочется валандаться здесь месяцами? Война закончена, время прекратить бои!
На меня зло оглянулись; я продолжил; постепенно настроение менялось — видимо, я задел за живое. В разговор вступили те, кому не нравилось, что происходит с пленными. Зазвучал хор голосов: „Правильно говорит разведчик. Бить по морде надо идиотов, которые убивают пленных”.
У меня всегда было что-то скаутское во взглядах. Вера в чистоту еврейского оружия — выражение, которое часто употреблял первый командир Пальмаха. Не трогать пленных — это, среди прочего, значит хранить чистоту еврейского оружия. Я к тому времени, как и двое моих сослуживцев, был членом левой социалистической партии; взгляд нашей партии был в то время ясен: вторая война вообще не должна была случиться. Это не война за независимость; мы атаковали арабов первыми, и это чтобы помочь англичанам и французам отобрать у них Суэцкий канал. Но, повторяю, это было много позже».
Сергей Крих. Другая история. «Периферийная» советская наука о древности. М.: НЛО, 2020
 Исследование доктора исторических наук Сергея Криха посвящено «периферийным» советским историкам — то есть, по определению одного из коллег, «историкам древности, которые не стали большими начальниками». Иными словами, автора интересуют ученые, по различным причинам выпавшие — целиком или лишь на некоторый отрезок карьеры — из идеологического мейнстрима и политического заказа, который в СССР в очень значительной степени обуславливал работу гуманитарных наук. Один из самых любопытных сюжетов, вырисовывающийся в монографии, связан со сложными отношениями между «ядром» и «периферией», из которого следует, что в аутсайдеры попадали далеко не только «самые талантливые» исследователи, а их подходы и интерпретации служили порой «резервуаром идей» для официальной науки.
Исследование доктора исторических наук Сергея Криха посвящено «периферийным» советским историкам — то есть, по определению одного из коллег, «историкам древности, которые не стали большими начальниками». Иными словами, автора интересуют ученые, по различным причинам выпавшие — целиком или лишь на некоторый отрезок карьеры — из идеологического мейнстрима и политического заказа, который в СССР в очень значительной степени обуславливал работу гуманитарных наук. Один из самых любопытных сюжетов, вырисовывающийся в монографии, связан со сложными отношениями между «ядром» и «периферией», из которого следует, что в аутсайдеры попадали далеко не только «самые талантливые» исследователи, а их подходы и интерпретации служили порой «резервуаром идей» для официальной науки.
«...Дмитрев был единственным автором, чьи работы практически идеально соответствовали ленинскому-сталинскому (весьма упрощенному) видению позднеантичной истории, в то время как остальным приходилось, например, просто добавлять к фактологии общеизвестные цитаты. Постоянные восстания, о которых говорил Ленин, и все то, о чем говорил Сталин: рыхлая Римская империя, варвары и рабы, „с грохотом” опрокидывающие Рим, ликвидация рабовладения, — все эти черты у Дмитрева отражены так, что, читая его, журнал нельзя обвинить в недостаточной боевитости или идейности. Там, где другие предпочитали обтекаемые формулировки о движениях рабов и колонов, об их общем фронте с городскими низами и варварами, Дмитрев рубил напрямую, и это именно он довел начальный концепт до связной исторической концепции „перманентной революции рабов”. То, что он при этом пожертвовал львиной долей научности, можно было списать со счетов, особенно в период идеологических кампаний позднего сталинизма, вряд ли сам это понимая, оказался важным противовесом, который делал возможным существование более академической науки на его фоне».
Эрве Гибер. Любовная инъекция. Тверь: Колонна, 2019. Перевод французского Алексея Воинова
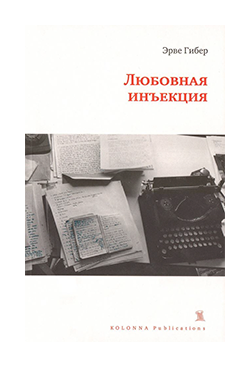 В этот сборник вошли двадцать шесть коротких текстов, созданных в 1979–1984 годах, еще до того, когда скандальному эстету и возлюбленному Мишеля Фуко поставили диагноз СПИД; сборник собрал сам Гибер незадолго до своей смерти, в 1991-м. Истории, еще не отмеченные, по издательской характеристике, печатью болезни, объединяет некоторая повышенная доза беззаботности, если не сказать разнузданности, с которой автор живописует свои интимные приключения и невероятные интриги. Эффект от «Любовной инъекции» при этом такой же, как и от более поздних текстов писателя: грань между чудесным и посюсторонним мерцает и стирается, а вместе с ней утрачивается и возможность отличить ложь от любви, а нежность — от предательства.
В этот сборник вошли двадцать шесть коротких текстов, созданных в 1979–1984 годах, еще до того, когда скандальному эстету и возлюбленному Мишеля Фуко поставили диагноз СПИД; сборник собрал сам Гибер незадолго до своей смерти, в 1991-м. Истории, еще не отмеченные, по издательской характеристике, печатью болезни, объединяет некоторая повышенная доза беззаботности, если не сказать разнузданности, с которой автор живописует свои интимные приключения и невероятные интриги. Эффект от «Любовной инъекции» при этом такой же, как и от более поздних текстов писателя: грань между чудесным и посюсторонним мерцает и стирается, а вместе с ней утрачивается и возможность отличить ложь от любви, а нежность — от предательства.
«Ангелам, как представляется, было от пятнадцати до восемнадцати. Голыми ногами они отталкивались от мягких воздушных масс, в которые потом падали, смеясь переливчатым смехом (хотя фильмы, отображавшиеся на стенах, были без звука). Их щиколотки обвивала тонкая сеть, сделанная из кожи, снятой с самых укромных мест на брюхе гиппопотама, она покрывала ноги до самых ляжек, оставляя на виду округлые мышцы. Их ногти были подобны ониксу, а малиновые губы смеялись, демонстрируя белизну слоновьей кости. Их рельефные тела поросли еле заметным золотистым пушком, ладони же были гладкими, как будто полированными. Их движения порождали вокруг волшебную музыку».
Генри Петроски. Успех через провал: парадокс дизайна. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. Перевод с английского А. Васильевой
 Душеспасительное чтение для инженеров и дизайнеров в самом широком смысле, то есть для людей, которые создают некоторый (не)материальный продукт. Оперируя массой примеров — от баночек для лекарств с защищенными от детей крышками до небоскребов, — Петроски анализирует механику изобретательности. Основной сюжет, который его беспокоит, связан с тем, как соотносятся между собой неудача и успех в творческом процессе. Одна из самых увлекательных глав посвящена колоссальным ошибкам, допущенным при строительстве большепролетных мостов и космических челноков, из которой, в частности, следует, что катастрофы и крушения можно предупредить, если знать историю, а следующее большое разрушение моста должно произойти около 2030 года.
Душеспасительное чтение для инженеров и дизайнеров в самом широком смысле, то есть для людей, которые создают некоторый (не)материальный продукт. Оперируя массой примеров — от баночек для лекарств с защищенными от детей крышками до небоскребов, — Петроски анализирует механику изобретательности. Основной сюжет, который его беспокоит, связан с тем, как соотносятся между собой неудача и успех в творческом процессе. Одна из самых увлекательных глав посвящена колоссальным ошибкам, допущенным при строительстве большепролетных мостов и космических челноков, из которой, в частности, следует, что катастрофы и крушения можно предупредить, если знать историю, а следующее большое разрушение моста должно произойти около 2030 года.
«Почему главные разрушения мостов происходят с интервалом в тридцать лет и почему нам стоит ждать продолжения? Пол Сибли и Аластер Уокер, исследователи, которые впервые заметили эту закономерность, считают, что тридцать лет — это время, которое требуется, чтобы одно „поколение” инженеров сменило другое в рамках технологической культуры тех, кто работает над проектом или последовательностью связанных проектов. Хотя проектирование новых конструктивно или по технологии строительства мостов может быть делом технически сложным, вызовом для инженеров, типовые конструкции не вызывают интереса и уважения у молодого поколения, они смотрят на них как на рутинные задачи. Инженеры предыдущего поколения знали о вызовах и проблемах, встававших при реализации этих „старых типовых” проектов, но, по мере того как их реализовали, а их карьера шла вперед, переходили к другим проектам и таким образом теряли с ними связь. В то же время молодые инженеры, унаследовав успешный „старый” проект, но не зная о его вызовах и проблемах, не испытывали к нему особого уважения или страха перед возможными проблемами его реализации. Итак, в отсутствие контроля и руководства со стороны тех, кто лучше всего знал о лежавших в его основе недостатках, предположениях и допущениях, технология развивалась все дальше и дальше и уже никто всецело не осознавал ее ограничений или ограничений участвующих в проекте инженеров».
Константин Сомов. Дневник 1926–1927. М.: Дмитрий Сечин, 2019
 Это третий том дневников художника, собранный историком искусства Павлом Голубевым. В издание вошли записи за первые годы, которые Сомов прожил во Франции, куда он попал после выезда в США в 1923 году и где остался жить вплоть до смерти в 1939-м. Сомов поселился в ста километрах от Парижа, в сельской местности, где некогда купил ферму его давний любовник Мефодий Лукьянов. Ферма стала своего рода пансионом, где гостили друзья мастера. Значительную часть колоритнейших дневниковых записей, ценных для понимания как личности Сомова, так и жизни русской эмиграции, образуют как фиксация быта французской деревни, так и описание художественных будней — выставок, премьер спектаклей и пр.
Это третий том дневников художника, собранный историком искусства Павлом Голубевым. В издание вошли записи за первые годы, которые Сомов прожил во Франции, куда он попал после выезда в США в 1923 году и где остался жить вплоть до смерти в 1939-м. Сомов поселился в ста километрах от Парижа, в сельской местности, где некогда купил ферму его давний любовник Мефодий Лукьянов. Ферма стала своего рода пансионом, где гостили друзья мастера. Значительную часть колоритнейших дневниковых записей, ценных для понимания как личности Сомова, так и жизни русской эмиграции, образуют как фиксация быта французской деревни, так и описание художественных будней — выставок, премьер спектаклей и пр.
«Встал часов в 8½. Повторил испанский урок. Написал записку Kahn’у. Погода сегодня чудная, теплая, деревья окутаны легкой зеленью.
Сеанс: писал грудь, и не очень плохо, — хорошо, что стер ее вчера. Все довольны. Некоторое время с нами сидела и разговаривала старая тетя Е[лены] С[ергеевны] Ольга Мих[айловна] Попова — с юмором и с милой насмешкой над самой собою. Е[лена] С[ергеевна] опоздала, т. к. у нее драма: ее собаки — пекинез и сучка-грифон, уже старая, — случились, как их ни оберегали. Виновница недосмотра — собачья гувернантка, девица 25 лет. Она была в большом огорчении, вся красная и, по-видимому, плакала. Е[лена] С[ергеевна] рассказала, как все случилось во всех подробностях. Собак долго не могли разлучить и по совету Рафаэля понесли уже в ванну, но тут они расцепились. Е[лена] С[ергеевна] рассказывала об этом все утро, полукомично-полусерьезно.
За завтраком ели рис с сушен[ыми] грибами и шукрут с сосисками, колбасками и bacon’ом. Я немного напился пьян коньяком. Заходил еще Уваров, ему тоже была рассказана собачья история, тем более что он — бывший хозяин Mirette’ы».