«Свисают выблюдки-слова»: жизнь и смерть футуриста Венедикта Марта
Максим Тесли об одном из самых экстравагантных поэтов своего времени
В лампу заливается особое [Роскомнадзор], фитиль обязательно должен быть из правильного [Роскомнадзор], в крохотное отверстие [Роскомнадзор] помещается тщательно подготовленный и размятый опиумный шарик, нужно тщательно соблюдать [Роскомнадзор] трубки, а также очень грамотно действовать [Роскомнадзор], чтобы создать точную температуру, при которой опиум превратится в пар.
В общем, курение опиума — процесс достаточно сложный. Его надо уметь употреблять. Венедикт Март умел.
***
Венедикт Матвеев родился и вырос во Владивостоке, он с детства был погружен в восточную культуру. Его отец, Николай Матвеев, писавший стихи под псевдонимом Матвеев-Амурский, первый историк Дальнего Востока, в совершенстве знал японский язык, до революции пятнадцать раз побывал в Японии, а после революции и вовсе туда эмигрировал. Большая часть прислуги в доме Матвеевых была родом из Китая, на улицах Владивостока торговали игрушками и фастфудом многочисленные китайцы (в 1910 г. во Владивостоке их проживало около пятидесяти тысяч, у них даже был свой «город в городе» — известная на всю страну своими борделями и курильнями Миллионка). В общем, влияние Востока Венедикт при всем желании избежать не мог.
И свой жизненный путь он тоже, кажется, выбрал не сам. Ну как можно не связать свою жизнь с литературой, если твой отец — поэт и писатель, твой крестный — писатель (Иван Ювачев, народоволец, каторжанин, отец Даниила Хармса), а дома ведется журнал, куда дети по настоянию родителей записывают сочиненные стихи (пятеро из пятнадцати детей впоследствии станут литераторами).
Свой первую настоящую книгу, сборник стихов «Порывы», он печатает в отцовской типографии в 1914 году под псевдонимом В. Марьин, посвящает сборник отцу, ему же в стихах подражает. Стихи там, мягко говоря, так себе. Впрочем, у кого они в 18 лет были не так себе?
Други, в горы, на вершины!
От позорной паутины,
От житейской суеты!
Достигайте высоты, —
Храм божественной мечты.
И от грязи улетая,
Юность, юность золотая,
Над землею пролетая...
И т. д. и т. п. Тем же молодецким хореем, не знающим ни стыда, ни страха.
В 1915–1917 гг. Венедикт служит вольноопределяющимся Финляндского полка — скорее всего, он общается с какими-то звездами Серебряного века (и несмотря на то, что точных подтверждений нет, не мог же начинающий поэт, оказавшийся в столице поэтического хайпа, не найти встречи хотя бы с каким-нибудь Олимповым). Кабаков и притонов в Петербурге было не так уж много — наверняка пересекались. В конце 1917-го Венедикта из армии то ли выгоняют с позором, то ли комиссуют по болезни. Его брат Георгий (1901–1999) в своих мемуарах рассказывает, что Венедикт на учениях пырнул в живот офицера, который издевался над солдатами, потом стал косить под психа, на медосвидетельствовании укусил врача и лег в психушку, где познакомился со своей будущей женой. Правда, по другой версии, он чем-то заболел и в инфекционной больнице познакомился с женой, которая работала там медсестрой. Но, как говорил Тони Уилсон: «Если у тебя есть выбор между правдой и легендой — транслируй легенду», — у меня такой выбор есть. Поэтому Венедикт пырнул офицера, укусил врача и в психушке познакомился со своей будущей женой.
Венедикт возвращается во Владивосток, в конце 1917-го выпускает в типографии отца под маркой «Хай-шин-вей» (это «Владивосток» по-китайски) сборники «Черный дом» и «Песенцы», уже под псевдонимом Венедикт Март, в которые входят, в том числе, стихи, написанные в Петербурге. Тут под влиянием восточных ритмов и русского декадентства вырабатываются стиль, флоу, своя вселенная, наполненная древними демонами, желтолицыми китайцами, гейшами — надо всем этим струится опиумный дым:
 Тени и блики на желтых циновках.
Тени и блики на желтых циновках.
Дым поднимается темным туманом.
Курят в молчании желтые люди.
Мак, точно маг-чаротворец багровый,
Явь затемняет обманом дурмана,
Чадные грезы тревожит и будит.
Или:
Душа моя — свиток старинный.
Много печатей сердец замолчавших
Рдянно узорят его.
Четки на нем отраженья
Духов ушедших, покинувших тело
В прежних забытых веках.
В «Песенцах» также есть переводы из японской поэзии, Иохано, Мацухито, если не первые, то точно одни из первых переводов в России.
Также Март пишет собственные танка:
Жуткие нити
В темной промерзшей земле
Март паутинит.
Тихо крадутся ростки.
Вспыхнут зеленым вверху.
Это уже, черт возьми, стиль! Вообще, почти все написанное Мартом (и дошедшее до нас) после юношеских «Порывов» — это очень стильно, атмосферно, иногда атмосферно до ужаса. Март пускает нас в эту свою вселенную, куда нам, может быть, еще и рановато соваться-то: как будто в одиночку съел марку, которая рассчитана на четверых, и теперь так корежит, что не знаешь, выберешься ли. Март в этой вселенной чувствовал себя прекрасно, ему точно было можно.
1 декабря 1918 года у него рождается сын, Уотт-Зангвильд-Иоанн Матвеев (да-да, так по документам), будущий поэт Иван Елагин, которому будут респектовать Бунин, Солженицын и Бродский.
Но рождение сына не мешает Марту, на пару с братом Гавриилом, также известным как Эльф и Фаин (слово «Фаин» в переводе с китайского обозначает приход от опиума, одновременно обозначая и ломку, т. е. смысл фразы «Я вчера словил такого фаина» можно понять исключительно по интонации, с которой фраза произносится), сильно разбежавшись и оттолкнувшись от земли, нырнуть в богемную жизнь, с которой во Владивостоке все было в полном порядке (настолько в порядке, что Фаин впоследствии умер от передозировки). В районе Миллионки в шинкарнях можно было купить девяностошестиградусную китайскую водку, в морфинилках и опиекурилках прилечь на пару-десять часов, а уж от борделей и игорных домов просто было не скрыться. «Убегал от „жизни-пытки” в китайские морфийные притоны, в таячваны — курильни опиума... Чуть было вовсе не скурился», — позже напишет об этом периоде Март в одном из писем сыну.
По мотивам своих загулов братья выпустят совместный сборник «Фаин», написанный, по их словам, на «Вершинах Белой Земли» (не очень знаю географию Владивостока, но есть предположение, что это где-то в районе той самой Миллионки), лучше кого-либо из поэтов Серебряного века раскрыв тему наркотиков.
Он постоянно аккуратен.
В карманчике жилета
Он носит грамм безумья в порошке —
Блестящий кокаин!..
В общем, «Страх и отвращение во Владивостоке». Сборник «Фаин» очень страшный. Натурализмом и безысходностью. Читая эти стихи, физически ощущаешь ломки братьев, то одного, то второго, и снова думаешь: а можно ли мне сюда?..
А Гражданскую войну, кстати, никто не отменял. Загулы загулами, но Владивосток занят то красными, то белочехами, то японцами. Март отреагировал на убийство красногвардейцев в июле 1918 резкими стихами, опубликованными в журнале «Великий океан», что было, кстати, смелым поступком:
Настанет час!
И наведут они на вас
Не хрупкие бинокли из балконов...
Нет! Жерла пушек и штыки,
Чтоб выколоть глаза
Дракону капитала
И в прах истлить
Гниющего урода.
После публикации стихов Марту какое-то время приходится скрываться от капеллевцев и семеновцев, желавших узнать, кто это такой собрался выколоть им глаза и истлить в прах. Впрочем, пронесло.
В начале 1919-го Март уезжает в Японию, где «кутит и увлекается японками», как позже ответит на вопрос следователя НКВД «чем он занимался в Токио». Продолжение допроса тоже будет довольно стильным:
«Вопрос: На какие средства вы кутили и увлекались японками?
Ответ: Я был тогда еще молод, и мне для этого особенно не требовалось средств».
Но, ладно, допрос состоится только через 18 лет, а пока Март кутит, увлекается японками, знакомится с местными поэтами. Через полтора месяца он вернется во Владивосток и издаст книгу «Лепестки сакуры», в которую войдут стихи, написанные в Японии:
В сумерках цветы
Сиротливые дрожат...
Ветер пробежал!
А также переводы японской поэзии.
Приморский край охвачен партизанской войной, а во Владивостоке кипит литературная жизнь. Открывается футуристическое Литературно-художественное общество Дальнего Востока (ЛХО ДВ), создается театральная студия «Балаганчик», до Владивостока добирается Давид Бурлюк. Учитывая, что многие, спасаясь от беспредела, творящегося в столицах и центральной России, предпочитали двигаться на Восток, во Владивостоке собралась прямо-таки звездная компания: сам Бурлюк, Сергей Третьяков, Николай Асеев, Насимович (Чужак) — звезды первой величины тогдашней литературной сцены. Открывается литературное кафе «Би-Ба-Бо», издается журнал при ЛХО «Творчество». С целью укрепления ЛХО в середине 1919 избирается руководящая пятерка: Асеев, Третьяков, Бурлюк, Март, Синяков. Однако уже в декабре 1919 Март из ЛХО выходит, а в июне 1920 печатает в газете «Рассвет» статью «Футуризм — музейная плесень», где обвиняет вчерашних друзей в убожестве и несостоятельности. Вообще, удивительно, что Март называл себя какое-то время футуристом — от футуристического у него только странноватые сборники «Мартелии», полупроза, полустихи о смерти:
Вместо Солнца в тот день взошел Каравай Хлеба.
Ароматные лучи заливали землю.
А люди потянули глаза и руки к новому солнцу.
Миллионы тянулись жадно.
Хлеб карабкался по небу, дразня людей и всю тварь земную.
Люди бешено гнались за солнцем и на закате настигли его...
Разнесли по крошкам новое солнце по всей земле своей.
Всю ночь жевали солнце голодные люди.
Были еще некоторые эксперименты, но футуризмом все это можно назвать с очень большой натяжкой.
Поругавшись с основными представителями литературной тусовки Владивостока, потеряв возможность печататься в пролетарских газетах, Март вместе с женой и сыном уезжает в Харбин.
В Харбине, по воспоминаниям еще одного брата Николая Матвеева-Бодрого (1890–1978), «все, что у него было — пропивалось, прокуривалось и расходовалось в ущерб семье». Много тусует в Фудзядяне, самом злачном районе, пишет очерки о жизни дна вроде «Желтых рабынь», о жизни проституток, сотрудничает с демократическими и откровенно антибольшевистскими газетами. В том числе печатает стихотворение «Карл Маркс или Христос?»:
Порок или Пророк? Скажи мне, скиф, ответь мне, росс,
В мои ни зги! На мой вопрос:
Порок или Пророк? Ответь мне, росс, скажи мне, скиф, в огне угроз
В тебе возник:
Порок или Пророк? Ответь мне, скиф, скажи мне, росс... пути узки...
А также в 1921 году издает книгу «Россия без Ъ» (которая в материалах уголовного дела станет одним из доказательств его антисоветской деятельности):
Безграмотный Титан
Плюгавый Грамотей
Россию разметал,
В кровавой суете.
Одно стихотворение в книжке, между прочим, посвящено «Человечьему мясу краснокожей поэзии, выблюдку толпы — поэту желудочного сока — Маяковскому — автору «150 000 000». В общем, ведет себя Март так, будто возвращаться на родину особо не собирается.
Но в 1923 начались массовые выезды эмигрантов из Харбина. Март обратился в посольство СССР и тоже получил право на выезд. Какое-то время живет в Ленинграде, сближается с Хармсом и другими ОБЭРИУтами (он не очень красиво выведен в образе поэта Сентября в вагиновской «Козлиной песне), сотрудничает в различных журналах, пишет много прозы, выходят сборники его рассказов, приключенческий роман «Желтый дьявол», написанный в соавторстве с Н. Костаревым, книги для детей, печатается он много. То есть все достаточно безоблачно. В СССР ведь нет опиумных курилен.
Хотя вот с алкоголем проблем не было. О пьянках Марта ходили легенды. Как, например, они вместе с поэтом Аренсом на достаточно большой высоте привязали себя к сосне, а перед собой, на ремнях же, укрепили ящик с водкой. И не спустились, пока весь не выпили. Одна из легендарных пьянок закончилась трехлетней ссылкой, был какой-то мордобой с участием ребят из ГПУ. В конце октября 1928-го Венедикта ссылают в Саратов, жена его ложится в сумасшедший дом (откуда больше никогда не выйдет), а десятилетний Уотт-Зангвильд-Иоанн оказывается на улице и несколько недель проживет беспризорником, пока его не узнает один из друзей Марта, не соберет все необходимые документы и не отправит к отцу в Саратов.
Находясь в ссылке, Март продолжает печататься. Конечно, уже нельзя думать об издании стихов в стиле «Песенцев» или «Фаина», но книги для детей или про борьбу товарищей-китайцев с капиталистическим злом — вполне себе издаются.
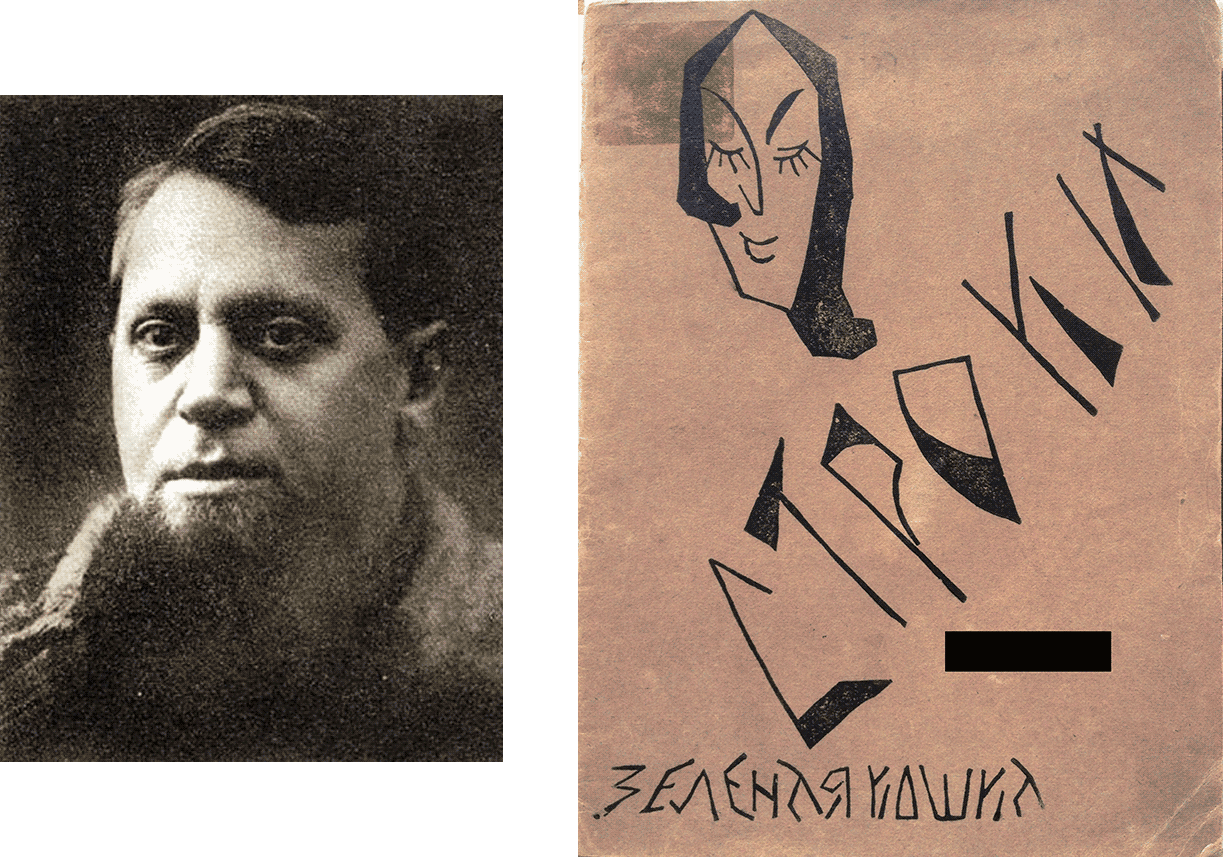 Отмотав срок, он переезжает с сыном в Киев. Пишет. Работает в газетах, ездит по командировкам, освещая великие стройки социализма. Вполне мог бы дожить до старости, устраивая такие же легендарные пьянки, как и в молодости. Но. Он жил в оккупированном интервентами Владивостоке. Но. Он жил в Харбине! Да уже одна книга «Россия без Ъ» тянет на расстрел. И Марта расстреляли.
Отмотав срок, он переезжает с сыном в Киев. Пишет. Работает в газетах, ездит по командировкам, освещая великие стройки социализма. Вполне мог бы дожить до старости, устраивая такие же легендарные пьянки, как и в молодости. Но. Он жил в оккупированном интервентами Владивостоке. Но. Он жил в Харбине! Да уже одна книга «Россия без Ъ» тянет на расстрел. И Марта расстреляли.
12 июня 1937 года к нему пришли с обыском. Согласно протокола изъяли: «1. Паспорт Матвеева Венедикта Венедиктовича, серия ЭИ № 169822 — 1; 2. Членский билет за № 046828 — 1; 3. Военный билет, выданный военно-учетным столом 21.7.33 (дубликат) — 1; 4. Разная переписка и рукописи — 3 места, одна коробка и два свертка».
В том числе изъяли рукопись романа «Война и война».
— Ну вот, наконец-то прочтут роман! — сказал Март, когда его выводили из квартиры.
Его обвинили в шпионаже в пользу Японии.
В качестве доказательств обвинения выступали следующие факты: он сотрудничал с белоэмигрантскими газетами, писал и читал публично контрреволюционные произведения, общался с репрессированными лицами, по заданиям газет оказывался на крупных стройках СССР, а также (прямая цитата из обвинительного заключения) «Матвеев — морфинист, на протяжении долгих лет употреблял различные нелегально добываемые наркотические средства и алкоголь. Матвеев на почве наркоза окончательно морально разложился».
Поэта обвинили в том, что он печатался в газетах, не узнавая их политической направленности, читал свои стихи публично, дружил с неправильной компанией, зарабатывал литературой, а также пил и употреблял наркотики. В общем, за то, что был архетипическим проклятым поэтом.
16 октября 1937 года Венедикт Март был расстрелян.
Уотт-Зангвильд-Иоанн Матвеев в 1943 году из Киева вместе с женой перешел в зону американской оккупации, с 1950 года он будет жить в США, станет профессором Питтсбургского Университета, где будет преподавать русскую литературу. За год до смерти, в 1986 году он напишет стихотворение «Амнистия»:
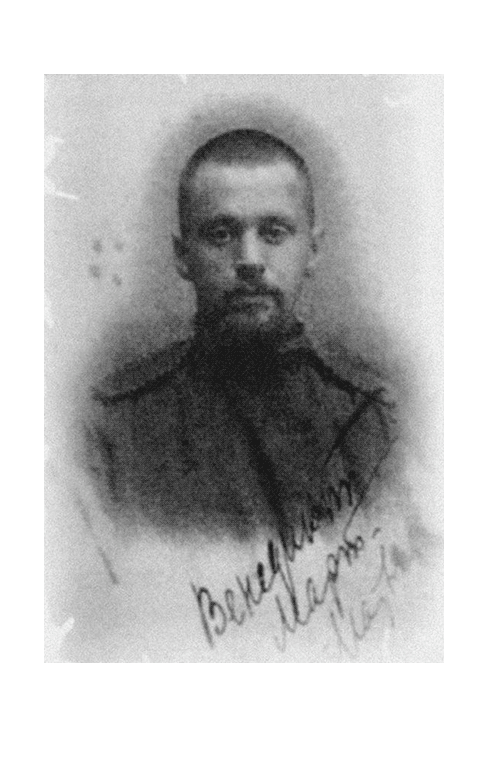 Еще жив человек,
Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.
Вероятно, на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил.
Ну, а если он умер —
Наверное, жив человек,
Что пред самым расстрелом
Толстой
Проволокою
Закручивал
Руки
Отцу моему
За спиной.
Верно, тоже на пенсию вышел.
А если он умер,
То, наверное, жив человек,
Что пытал на допросах отца.
Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.
Может быть, конвоир еще жив,
Что отца выводил на расстрел.
Если б я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.
Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня.
Несколько стихотворений Венедикта Марта
Что можно? Когда? Кому? Как?
Можно если можешь! — Ха! Ха! — Всем. Просто.
Можно если смеешь! — Почти что. «Которым». Прохладно.
Можно если презираешь! Так себе. Не всякому. Слякоть.
Можно если невозможное! Хе! Хе!
И еще:
— Если преступление, но не через себя. — Мне.
— Если преступление, но к себе. — Ехидным. Тускло.
— Если бессовестно чист. — Идиотам — Эфирный чад.
— Если бездушно безвопросен. — Талантам*
*) Исключение из всего: одно нельзя — лгать самому себе. Ибо это будет ложь лжи. 2 минуса скрестятся в гримасу плюса. (Сие прим. для непонимания).
P. S. Итого: можно если можешь минус (ноль) 0:
— можно если без «Если» (Хи! Хи! Хем!)
Джига.
Дар Мака
Таял воск. Огни струились ввысь.
Купол мглу стерег, сбирал оттенки.
Тени, блики бегали от стенки.
На кресте дрожал в ознобе сыч.
Я лежал. Качалась колыбель.
Кто-то мысль баюкал монотонно.
Ветра жуткий шум носился сонно.
Где-то с ржавым скрипом билась дверь.
Тихо грызла мышь ребро в боку —
Там, где сердце смутно трепетало.
Капли крови крыли покрывало.
Я влагал в размер стиха мечту.
Жизнь по каплям убегала прочь.
Я лежал с закрытыми глазами, —
Все лицо укутав волосами, —
Сжав рукой сухой закрытый рот.
Без конца качалась колыбель.
Все влекло в страну забвенья —
Воск слезами капал на каменья.
Мышь в груди прогрызла к сердцу щель.
С. -П. -бург.
22 ноября 1915 г.
В курильне
Зорко и пристально взглядом стеклянным
Смотрит курильщик на шкуру тигрицы —
Некогда хищного зверя Амура.
Чтобы отдаться объятиям пьяным,
Женщина с юношей ею прикрылись.
Смотрит курильщик, как движется шкура.
Странны, познавшему опия сладость,
Страсти животные к женщинам низким,
Страсти, мрачащие души — не мудрых.
Тихо в курильне и душно от чада,
Редко шипение лампы при вспышке,
Вздохи... чуть слышится шепот под шкурой.
Тени и блики на желтых циновках.
Дым поднимается темным туманом.
Курят в молчании желтые люди.
Мак, точно маг-чаротворец багровый,
Явь затемняет обманом дурмана,
Чадные грезы тревожит и будит.
С. -П. — бург
1916 г. 4 февр.
К КНИГЕ
....................................
В чистом озере ночном, —
На расплавленной Луне,
Извиваются и пляшут
Силуэты берегов.
...
Расположились
В цветах... Зачинаем пир
Запускаем в лет
Мы пернатые кубки
И хмелеем от... луны!..
Язвы на слове
Соврусь!.. «Продком», «Советмосква»...
«Предсовнарком»... «комбед»... «Чека»...
То плесень затхлого мозга
Изъела сердце языка!
Кто кость тебе в язык вонзил?!
Кто горло вымазал смолой?!
Родное слово изъявил
Проказой смрадною, гнилой?!
Косноязычный недоносок,—
Подпольный выродок немой, —
С болота мертвого выносит
Своё рушительное дно!
И исподлобья раба —
Горят взърённые глаза!
Свисают выблюдки-слова
На мертворожденных устах!
«Соврусь»... «Продком»... «Советмосква»...
«Предсовнарком»... «комбед»... «чека»...
Шипы тернового венка
Вокруг бессмертного чела.
24 июля 1921 г.
Синобе
Веки робкие мерцают...
Губы рдяные дрожат...
* * *
Разверзлись хрупкие уста
Сакуры — саванной невесты
И благовест цветов,
Порхающих в ветвях,
Вещает праздник вешний.
2.
Ветку сакуры
Растревожил воробей.
Ах, он небрежный!
Он просыпал из ветвей
Стайку хрупких лепестков.
5.
Ты — жестокий, дождь! —
Капли острые твои
Бьются о цветы!..
6.
Крылья лепестки
В сумерках трепещат... —
Ветер их настиг!
7.
В сумерках цветы
Сиротливые дрожат... —
Ветер пробежал!
10.
Расплескал Апрель
На ветвях Сакуры бред
Хрупких лепестков.
Апрель 1918 год.
Япония. Токио.
Тигровые ворота