Свиноматка родила двух собачонок: книги недели
Что спрашивать в книжных
Сны Теодора Адорно, философские размышления Петера Надаша о любви и «тихая революция» 1837 года в истории России: исполняя пятничный обычай, редакторы «Горького» делятся соображениями о самых любопытных новинках недели.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Пол Верт. 1837 год. Скрытая трансформация России. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с английского Сергея Карпова. Содержание
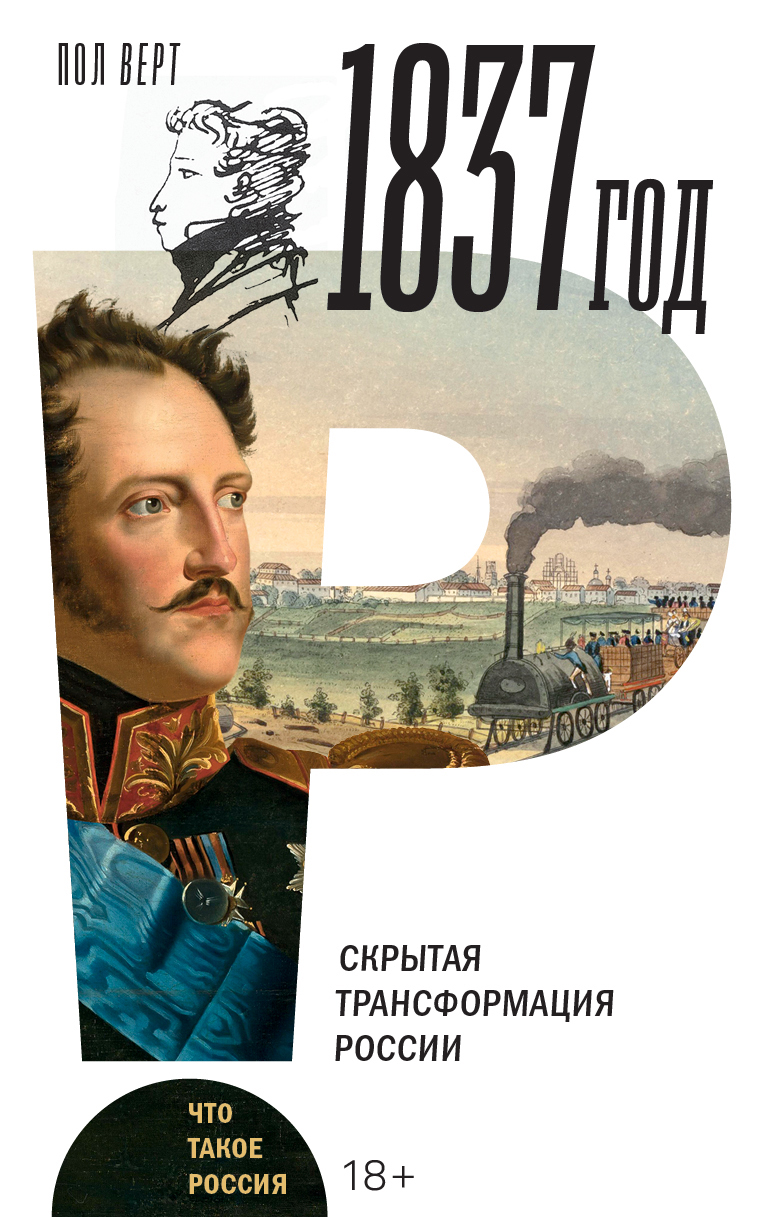
Сам по себе прием, когда какой-нибудь один год объявляется задним числом судьбоносным и сверхзначимым, кажется довольно нехитрым и даже отдает некоторой халтурой: мол, автор не придумал, как выстроить нормальный исторический нарратив, и решил нацеплять разрозненных заметок на хронологическую нитку, скрепив все это риторикой никем не замеченной уникальности конкретного временного отрезка. В случае книги Пола Верта такой подход начинает еще сильнее сбоить из-за того, что первый очерк книги посвящен вполне естественным образом гибели Пушкина, и если американской аудитории, возможно, интересно будет узнать, что он страшно мучился и ел перед смертью морошку, то мы все это читали уже не раз, не два и даже не три. Некоторая легковесность присуща и последующим главам — про триумф оперы Глинки «Жизнь за царя», про Чаадаева, про путешествие будущего императора Александра II по бескрайним российским просторам и т. п., — однако пользу из этого чтения извлечь вполне возможно, поскольку некоторая мозаика у автора действительно складывается. По сути он показывает, как в реакционное николаевское время продолжалось восхождение русской культуры к наивысшей ее точке и как на эту цель работали самые разные процессы и акторы.
«Большинство сочтет удивительным и скорее невозможным, чтобы свинья родила щенят, но как раз такое случилось в 1839 году. „Могилевские губернские ведомости“ в статье „О необыкновенном явлении в природе“ сообщили, что свиноматка вдобавок к четырем поросятам родила „двое собачонок, которые совершенно имеют форму и наружный вид обыкновенных щенят“. „И что всего любопытнее, — добавлял автор, — мордочка у них несколько похожа на свинью“. До 1837 года новости о подобных невероятных событиях не выходили за пределы группки местных кумушек. Но правительственный указ от июня того же года кардинально изменил ситуацию, постановив издание провинциальных газет. Последствия были впечатляющими. Новые газеты не только доносили подобные умопомрачительные новости бессчетным читателям (включая пытливые умы почти два века спустя). Важнее было то, что они поощряли губернских жителей исследовать местные любопытные происшествия и историю и тем самым прививали любовь не только к самой губернии, но и к провинциальной жизни в целом».
Теодор В. Адорно. Сны. М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. Перевод с немецкого Веры Котелевской. Содержание
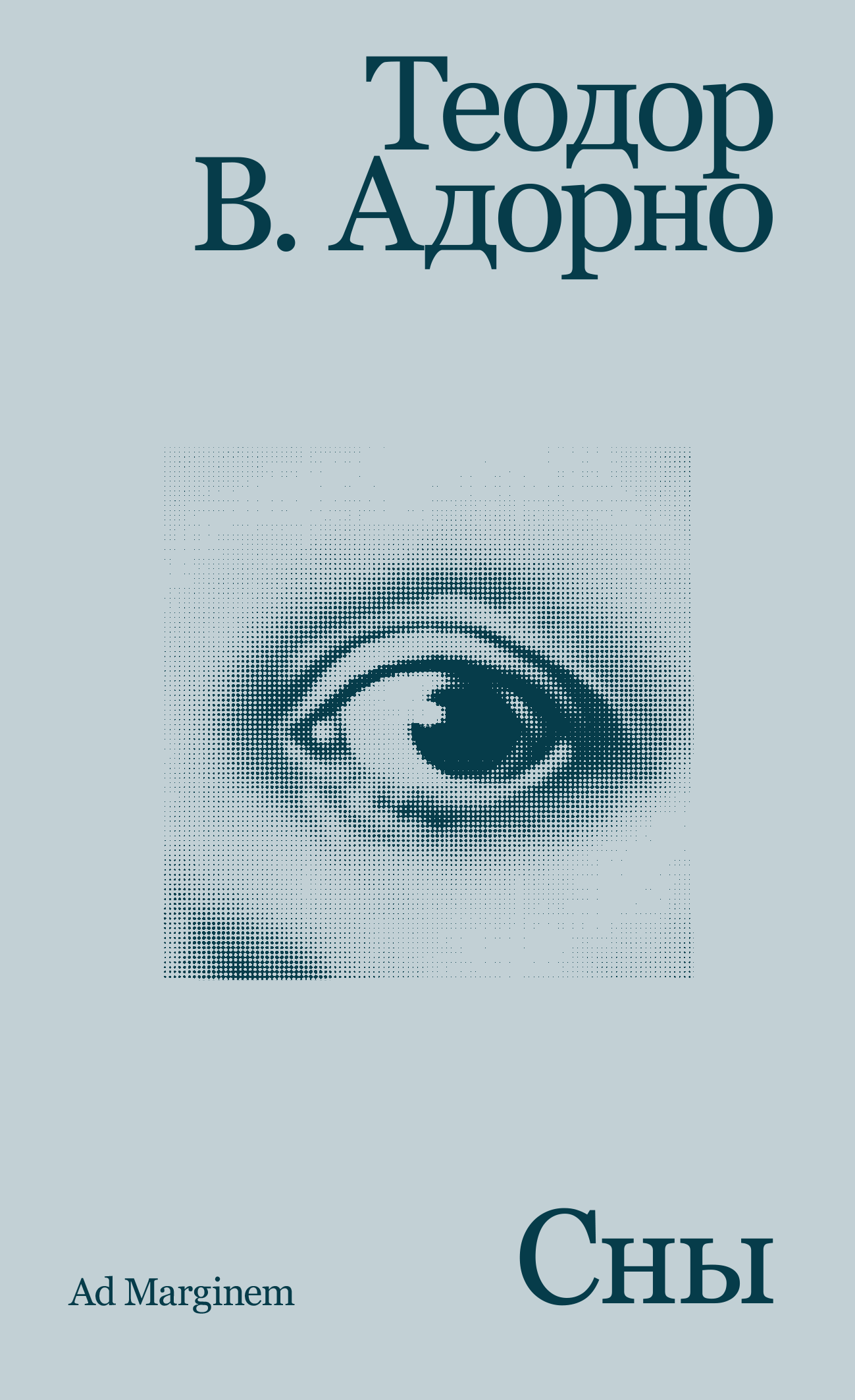
Как известно, нет ничего скучнее на свете, чем если кто-нибудь рассказывает свой сон, или о том, как он был на войне, или о том, как ездил на юг. Философ Теодор Адорно вряд ли был знаком с этой максимой, при этом он как ее автор записывал свои сны и даже планировал их издать отдельной книгой. При его жизни это намерение реализовать не удалось, однако Рольф Тидеман включил подборку сновидений в полное собрание сочинений одного из отцов-основателей Франкфуртской школы. Теперь сны Адорно впервые выходят на русском языке. Объединенные мотивами смерти, секса и наказаний тексты не сопровождаются, по счастью, авторскими толкованиями, а в плане яркости, занимательности и краткости дадут фору многим его, так сказать, сознательным произведениям.
«Конец дня. Я был приглашен директором моей гимназии, а ныне школы имени барона фон Штейна, внести свой вклад в памятное издание к ее пятидесятилетию. Сон: на церемонии меня торжественно назначили главным музыкальным руководителем школы. Неприятный старый учитель музыки, господин Вебер, и новый отдали мне дань уважения. После этого начался грандиозный бал. Я танцевал с огромным желто-бурым немецким догом — когда я был ребенком, такая собака играла очень важную роль в моей жизни. Он ходил на задних лапах и носил фрак. Я полностью доверился догу и, несмотря на полное отсутствие танцевальных способностей, почувствовал, что впервые в жизни могу танцевать уверенно и без стеснения. Время от времени мы с собакой целовались. Крайне довольный, я проснулся».
Ольга Щербинина. Говард Фаст и советские писатели. М.: Литфакт, 2024. Содержание
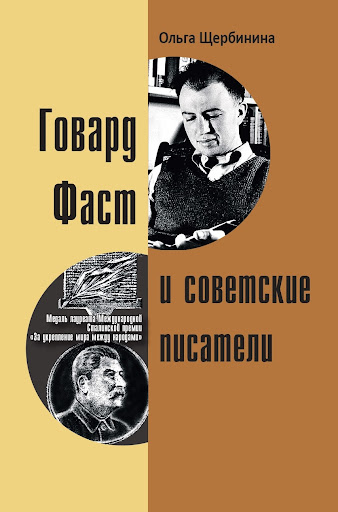
В долгой жизни едва ли не главного американского исторического романиста Говарда Фаста (1914–2003) был эпизод романтических отношений с коммунизмом: в 1944 году, уже в статусе признанного у себя на родине мастера, он вступил в компартию США и к концу десятилетия обрел в СССР репутацию одного из самых прогрессивных деятелей культуры США, живого классика. Его многочисленные издания и восхваления в советской прессе кончились в 1953 году присвоением ему международной Сталинской премии (в Америке же покрасневший писатель попал, очевидно, в опалу). Однако после доклада Хрущева на XX cъезде КПСС Фаст вышел из компартии и перешел на позиции социал-демократии. В Союзе на этот поступок отреагировали очень нервно — фактическим запретом на публикации.
Филолог Ольга Щербина разбирает обстоятельства этой драмы в жанре «художник и власть», приводя обширный корпус документов — письма Фаста и советских писателей, служебные записки, внутренние рецензии, газетные публикации за несколько десятилетий — не только отечественные, но и американские. В результате мы видим, если угодно, своего рода стереоскопическую акторно-сетевую картину репутации, того, как она производится в конкретных странах через конкретные действия конкретных критиков, чиновников, переводчиков, режиссеров и прочих акторов. Пожалуй, можно рекомендовать всем, кто интересуется историей советско-американских связей, особенно в их литературном срезе.
«С выходом „Последней границы“ наметилась та ниша, которую Фаст занял в советском „литературном поле“ на ближайшие годы: его специализацией стали „разоблачение США“, „правда об Америке“. Романы писателя оказались хорошим топливом для машины советской пропаганды, которая „муссировала, гиперболизировала отдельные, частные болезненные явления, возводила их систему, раскрывала, как смертельную болезнь, гангрену общественного организма США“».
Олег Воскобойников. Тысячелетнее царство. Христианская культура средневековой Европы. М.: Альпина нон-фикшн, 2026. Содержание
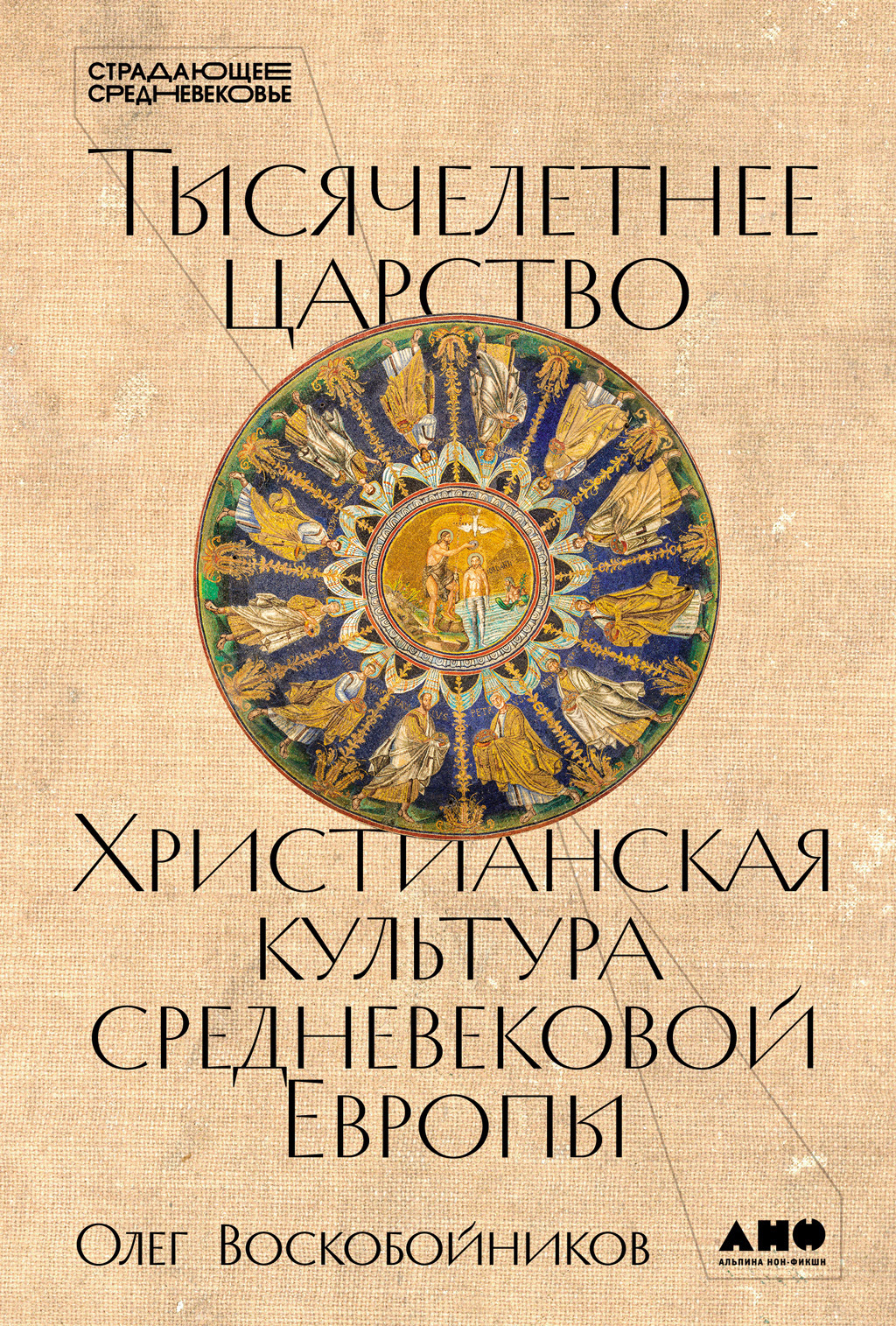
Не переиздание, а «почти новая версия» книги всеми любимого медиевиста Олега Воскобойникова. Впервые «Тысячелетнее царство» вышло в бесконечно далеком 2014 году. Для истории это даже не миг, а доля мгновения, зато для историка из плоти и крови — вечность, за которую рождаются целые идеи, меняются взгляды и общие представления.
Неизменным остается отрезок времени, которому посвящена эта книга — почти тысячелетие средневековой христианской цивилизации, начавшееся Отцами Церкви и закончившееся божественным Дантом (с известными поправками в ту или иную сторону). Кто-то назовет эту эпоху «темными веками», но не историк культуры, отрицающий кинематографические стереотипы о немытых феодалах, чтобы увидеть и показать зрителю куколку сложной трансформации, через которую прошли европейские общества, пока не приобрели относительно современный вид.
На огромном массиве текстов и произведений визуального искусства Воскобойников восстанавливает многогранный образ человеческой мысли, занесенной в то самое место и в то самое время, когда люди ковали моральные основы будущего, в котором все мы теперь живем. Впрочем, все это вы и без нас прекрасно знаете.
«Принято считать, что средневековый человек принципиально отличался от человека наших дней тем, что он не отделял себя от природы, от своей земли. Как мы уже видели, на протяжении многих веков в философии природа не была самоценным объектом исследования, но лишь предметом толкования для постижения метафизического, то есть того, что за ее пределами. Точно так же в бытовой жизни человек не мог позволить себе сделать из природы объект технического воздействия: достижения технического прогресса оставались относительно скромными, чтобы стать звеном, необходимым для таких субъектно-объектных отношений. История техники показывает, что такие открытия становятся частью повседневной жизни не автоматически, а лишь при благоприятном сочетании целого ряда историко-культурных и экономических факторов. Технология влияла на науку сильнее, чем наука на технологию, и это соотношение сохранялось долго — на протяжении периода, привычно называемого Новым временем. Если бы Бернарду Клервоскому показали телескоп, чтобы увидеть бесконечно далекое, и микроскоп, чтобы увидеть бесконечно малое, скорее всего, он принял бы эти понятные нам, полезные, хотя и не обиходные инструменты за дьявольщину, во всяком случае за безделицу. И по-своему, с точки зрения коллективной психологии своего времени, он бы оказался прав. В отличие от представителя доклассового общества, средневековый человек не слит с природой, в отличие же от нашего современника — он не противопоставляет себя ей».
Петер Надаш. О любви земной и небесной. М.: Издательство Ивана Лимбаха, 2025. Перевод с венгерского Ольги Серебряной. Содержание

Когда писатель пробует себя в роли философа, это, как правило, хоть святых выноси. Но это, впрочем, касается лишь писателей посредственных, а писателям великим можно все, что не квалифицируется как нарушение по действующему законодательству страны, в которой он находится в настоящее время.
Петер Надаш — писатель, безусловно, великий, поэтому ему, повторимся, можно все. Его проза — это гениальность, переходящая в безумие, безумие, переходящее в гениальность, и в конце концов полугениальное полубезумие как итог этого синтеза. Таково и эссе «О любви земной и небесной», в котором высокий стиль применяется к предметам вроде бы неподходящим, а поцелуи Алкивиада перетекают во вздохи Джульетты, чтобы тут же уступить место таким вот материям:
«Устойчивые выражения, в которых фигурируют фекалии, считаются самыми мягкими ругательствами. Назвав нечто говном, я просто хочу сказать, что это нечто — плохое. Мы так часто употребляем это слово и производные от него выражения, они до такой степени вошли в обиходный язык, что утратили свое значение в качестве заклинания, угрозы, запрета и закона. Этими ругательствами можно выразить разве что внезапное негодование, легкое волнение, неодобрение, мимолетное недовольство, но при всем при этом с ними могут быть связаны и дружеские чувства».
Мы ненавидим Нобелевскую премию и стремимся ее уничтожить, но все же она нужна, чтобы понять, какой из субверсивных венгров — Надаш или Краснахоркаи — более субверсивен и потому ее не достоин. За то и любим «проигравшего».