Страдающий модерн
Дмитрий Борисов — о книге социолога Домонкоса Сика
Domonkos Sik. Empty Suffering: A Social Phenomenology of Depression, Anxiety and Addiction. New York, London: Routledge, 2022. Contents
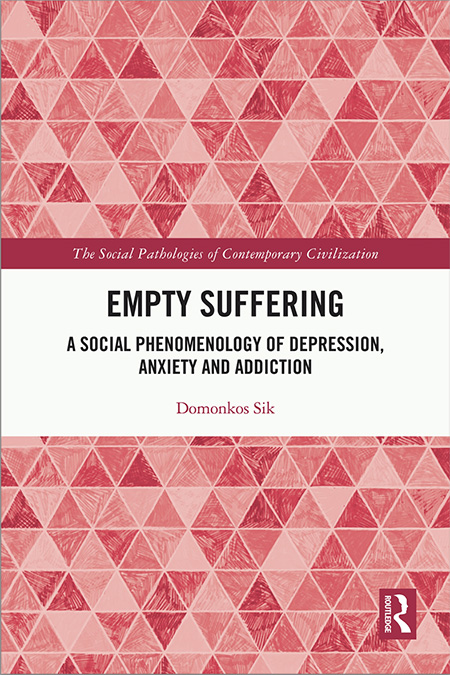 Книга Домонкоса Сика, профессора социологии Университета им. Лоранда Этвеша в Будапеште, вышла в небезынтересной серии «Социальные патологии современной цивилизации». Свое исследование боли, депрессии, тревоги, страха и аддикции автор характеризует как междисциплинарный проект, что само по себе интригует. Историю, социологию, философию и психологию он сводит на поле феноменологии, чтобы они там, что называется, встретились и поговорили. А поскольку феноменология — это про опыт, а всякая наука есть не что иное, как попытка описания мира в рамках своего собственного концептуального языка (его аксиоматики, границ, «слепых зон» и т. д.), то собственно опыт при таких делах оказывается дважды языком схлопнутый. Как говорили умные люди, «факт — это высказывание об опыте в категориях концептуальной схемы», сами факты «живут» только в рамках языков описания, а они все разные. Поэтому междисциплинарность — это, конечно, встреча на Эльбе, но скорее встреча самих языков, а не транслируемых с их помощью смыслов.
Книга Домонкоса Сика, профессора социологии Университета им. Лоранда Этвеша в Будапеште, вышла в небезынтересной серии «Социальные патологии современной цивилизации». Свое исследование боли, депрессии, тревоги, страха и аддикции автор характеризует как междисциплинарный проект, что само по себе интригует. Историю, социологию, философию и психологию он сводит на поле феноменологии, чтобы они там, что называется, встретились и поговорили. А поскольку феноменология — это про опыт, а всякая наука есть не что иное, как попытка описания мира в рамках своего собственного концептуального языка (его аксиоматики, границ, «слепых зон» и т. д.), то собственно опыт при таких делах оказывается дважды языком схлопнутый. Как говорили умные люди, «факт — это высказывание об опыте в категориях концептуальной схемы», сами факты «живут» только в рамках языков описания, а они все разные. Поэтому междисциплинарность — это, конечно, встреча на Эльбе, но скорее встреча самих языков, а не транслируемых с их помощью смыслов.
Тем не менее поговорить всегда есть о чем.
Мертвое тело, существующее как объект
Для начала Домонкос Сик определяет несколько условий («искажений»), которые должны совпасть для формирования депрессии. Во-первых, речь идет про потерю контроля над временем и нарушение баланса между его линейным и циклическим измерениями: субъект утрачивает способность разложить события по временной шкале с точки зрения причин и следствий, мир больше не кажется изменчивым, время перестает быть линейным, а становится преимущественно цикличным. А без линейного времени операции, основанные на проекциях на будущее, такие как желание и надежда, становятся невозможными. Будущее перестает иметь смысл, но безнадежность возникнет только если есть элемент утраты.
Во-вторых, отсутствие перспективы движения вперед делает последствия прошлых поступков фатальными. Экзистенциальная вина, которую невозможно избыть, не пускает ни в будущее, ни в прошлое, а цикличное восприятие времени делает такую ситуацию единственным источником озабоченности субъекта, в котором он тонет.
В-третьих, мир перестает восприниматься как место, где можно реализовать свои возможности, а всякая деятельность воспринимается как бесперспективная. Отказ от действия и акты прокрастинации еще больше укрепляют другие аспекты депрессии, «доказывая тщетность сопротивления». Изоляция от мира (в том числе, и телесная) способствует накоплению опыта «невозможности действовать». Итогом этой невеселой истории становится «искажение» под названием выученная беспомощность.
И наконец, Сик пишет о телесных трансформациях — о превращении субъекта в «мертвое тело, существующее как объект». В этом случае человек теряет способность взаимообмена аффективными состояниями с другими. Речь об эмпатии, предполагающей эмоции, потенциально открытые для влияния со стороны других. А поскольку переживание аффекта и его выражение могут быть неотделимы друг от друга (например, когда трясет от страха), то и на уровне мыслей/чувств, и на уровне тела вся эта история — интерсубъективная. В депрессии же происходит принципиальное нарушение такой интертелесности, а именно — превращение живого тела, способного посредничать для себя и других, в мертвое, существующее как объект. Соответственно, и весь мир теряет свой «живой характер», становясь «мертвой материей».
Интерсубъективные сон и мочеиспускание
В Средневековье страдание не воспринималось как нечто исключительное, а жизненный путь не делился на качественно обособленные фазы (до сих пор ведутся споры, «было ли детство» в Средневековье, поскольку к отпрыскам относились буквально как к недоразвитым взрослым).
Военный феодализм, вассальная зависимость и личная преданность — в то время, как отмечает Сик, «отсутствовал сам горизонт личности: люди отождествляли себя прежде всего со своим окружением и семьей <...>, а взаимозависимость составляла базовый уровень интерсубъективности — близость другого была не выбором, а необходимостью выживания». У людей практически не было шансов на уединение, жизнь строилась почти исключительно на взаимодействиях, что находило отражение и в архитектуре (нет личных пространств в интерьерах), и в быту («почти каждый момент жизни проводился в компании других, <...> не только прием пищи или работа, но и <...> сон, и даже мочеиспускание или дефекация».
Даже если совпадали несколько «искажений» из приведенного в предыдущей главке перечня, было крайне мало шансов, что они сформируют устойчивый паттерн, способный вызвать депрессию (но феномен «безутешного отчаяния» в Средние века, разумеется, был, причем как минимум двух видов: меланхолия и акедия).
В раннее Новое время система сюзеренитета-вассалитета сменилась основанными на благосклонности неравными отношениями патрон-клиент. Такой формат обеспечивал более гибкую социальную структуру, но по-прежнему основывался на личной зависимости. Поскольку никакого «верховенства права» не было, а базовый общественный договор еще предстояло разработать, социальные взаимодействия становились все более хаотичными и неконтролируемыми — в отношениях преобладала неопределенность. Такая ситуация вызывала, с одной стороны, возникновение новых социальных феноменов, таких, как искренняя дружба без взаимных подозрений и не ведущая к соперничеству. С другой — приводило к острой необходимости порвать с удушающими социальными сетями и связями. Появилась потребность не только в новых механизмах социального контроля, но и в средствах «отключения».
«Пытаясь справиться со специфическими страданиями Средневековья, социальные инновации раннего Нового времени непреднамеренно демонтировали социальные структуры, которые ранее предотвращали депрессию. С генеалогической точки зрения можно утверждать, что горизонт депрессии открылся именно в результате этих преобразований».
Добрый и злой следователи
Если говорить о феномене физической боли, то это, с одной стороны, одно из базовых физиологических переживаний, с другой — состояние, по понятным причинам требующее контрмер (утоления боли). Такая двойственность помещает боль на границу биологического и культурного, а все практики, связанные с болью, можно свести к технологиям ее устранения/уменьшения (прежде всего, медицинским) и, напротив, различным способам причинения боли для установления власти (политической или личной). Домонкос Сик отмечает, что, несмотря на то, что два этих измерения фундаментально связаны, их крайне редко рассматривают как нечто близкое, поскольку они очень не похожи друг на друга — как добрый и злой следователи.
В боли возникает дистанция между «я» (условно «бестелесным») и телом. Тело в боли превращается в объект — это уже не инструмент свободной воли, а вещь, определяемая внешними силами. В этом смысле боль — это не просто какой-то опыт в числе прочих, а что-то, что способно трансформировать мир. То, что раньше было полно возможностей, стало полным препятствий. В этом смысле сильная боль не просто превращает живое тело в объект, но и превращает мир в тягостную и невыносимую тотальность.
Ситуации интенсивной боли вовсе не обязательно связаны с болезнью или травмами. Деструктивные способности боли используют во время пыток.
«Тот, кто несет ответственность за такую агонию, является не просто другим, а квазивсемогущим агентом, у которого есть сила не только уничтожить мир [того, кого пытают], но и вернуть его. Поэтому мучители всегда стремятся представить себя очевидными источниками боли: эта причинно-следственная связь закрепляет их несомненный авторитет для жертвы. <...> Пытка никогда не заключается только в причинении вреда — она также включает в себя элемент речи. Кажется, что вопросы во время пыток задают для сбора информации, но на самом деле цель состоит в постепенной реконфигурации жизненного мира жертвы».
Именно посредством разговора телесное подчинение способствует переинтерпретации мира жертвы, его ценностей, ориентиров и установок — и в этом процессе верховодит исключительно истязатель.
Положиться или положить
Как утверждается в ряде психологических теорий, аддикция, она же зависимость, представляет собой патологию «мотивационной системы», возникающую из-за дисфункций подсистем реагирования, торможения импульсов, оценки и планирования. «Мотивационная система» нестабильна по своей природе: она должна оставаться гибкой, чтобы обеспечить адаптацию к изменяющимся условиям. Зависимость характеризуется потерей этой гибкости. Механизмы обратной связи, отвечающие за предотвращение исключительности любой конкретной формы мотивации, больше не работают из-за внутренних или внешних причин — и субъект зацикливается на одной-единственной модели поведения, которая начинает доминировать.
Домонкос Сик отмечает, что аддиктивная феноменологическая структура возникает из-за искажения интерсубъективности. Имеет место категориальная ошибка: субъект относится к объекту «абсолютным образом» (что бы это ни значило), изначально применимым только к другим субъектам. Объектом зависимости является не что иное, как «отсутствующее лицо», к которому субъект ошибочно относится с безраздельным вниманием (пассивным синтезом, не предполагающим любовь ответную).
«Субъект теряет способность обитать в открытом горизонте будущего, устремляясь к далеким целям, формируя в соответствии с ними свои жизненные стратегии. В мире аддикта такой горизонт недосягаем, так как субъект теряется в непрерывном настоящем <...> а поскольку цикл перезапускается снова и снова, конституирование линейного времени в конечном итоге приостанавливается. Наркоман выпадает из времени, которое отныне фрагментировано для него на регулярно повторяющиеся циклы».
По мнению Домонкоса Сика, аддикция стала получать широкое распространение именно в современности (которая, как мы знаем, началась в XVI веке): «даже если вещества, изменяющие состояние сознания, (в ритуальных, медицинских или развлекательных целях), и употреблялись в большинстве известных человеческих цивилизаций, злоупотребление стало предметом общественного беспокойства только с началом модерна».
Как отмечает исследователь, если в раннем модерне зависимость рассматривалась в основном как индивидуальная или социальная аномалия, то в дальнейшем (и особенно в дни сегодняшние) стал появляться другой нарратив, переосмысливающий зависимость как неизбежный элемент существования. На такое смещение акцентов указывает бум новых форм зависимостей, которые вовсе не обязательно связаны с конкретными веществами (алкоголем, никотином, наркотиками или кофе). Вместо этого почти любая конкретная форма поведения может превратиться в зависимость (игры, просмотр сериалов, еда, сексуальная жизнь). Сик называет это «культурой зависимости», которая, по его мнению, основана на объективирующем отношении к себе: это притязания на контроль над удовольствием и болью — то, что раньше было прерогативой биополитики и ее агентов, применяются акторами к самим себе.
Об «акторах» здесь говорится не для красного словца — Домонкос Сик прибегает к акторно-сетевой теории (АСТ) Бруно Латура, опираясь на которую, по его мнению, можно создать «правильную модель зависимости» — без редукции в физикализм или социокультурные штудии различных drug cultures. В первом случае сосредоточиваются исключительно на физиологических процессах аддикции и не берут в расчет то, что изможденное тело зависимого находится всегда в некой культурной среде. Второй — условно «гуманитарный» подход — Сик называет «бестелесным когнитивизмом», игнорирующим все, что «действует на дорефлексивном физиологическом уровне».
По Латуру, вместо того, чтобы рассматривать социальное как устоявшуюся структуру, способную навязать себя индивидууму (нормы и другие коллективные представления), социальное следует воспринимать как временное собрание человеческих и нечеловеческих акторов (акторы могут быть и нематериальными). При этом всегда остается открытым вопрос, кто из акторов играет определяющую роль.
Домонкос Сик считает, что теория Латура прекрасно описывает ситуации, когда границы между субъектом и объектом размываются, но ACT, по его мнению, недостаточно для того, чтобы объяснить тенденции позднего модерна, становящиеся причиной распространения зависимостей. Сик привлекает для этих целей три дополнительные теории: теорию овеществления Акселя Хоннета, теорию информационного общества Скотта Лэша и теорию социального ускорения Скотта Роза.
Остановимся немного на последней. Как утверждает Роз, «тоталитарный характер социального ускорения» приводит к тому, что современный субъект так яростно жить торопится и чувствовать спешит, что вырабатывает для себя только временные идентичности, без перспективы их приверженности. И живет исключительно настоящим, поскольку прошлое быстро становится неактуальным, а будущее с каждым днем все более и более непредсказуемо. Именно поэтому обещание предсказуемости и стабильности становится дефицитным ресурсом. И те актанты, которые способны дать устойчиво повторяющиеся паттерны, становятся наиболее ценными — они имеют хорошие шансы быть признанными в качестве реперных точек. У одних — идентичности-однодневки и дезориентация во времени, у других — дефицитная стабильность и предсказуемость.
Поэтому в этой истории человеческие акторы находятся в невыгодном положении по сравнению с нечеловеческими. Звучит как еще один повод для депрессии.