Старые материи нового идеализма
О книге И. П. Смирнова «Ум хорошо, а два лучше»
В «Новом литературном обозрении» вышла книга философа И. П. Смирнова «Ум хорошо, а два лучше». Ее автор поставил перед собой задачу суммировать знания европейской гуманитарной мысли и на их основе заложить фундамент «нового идеализма» в противовес сугубо материалистической культуре современности. О том, насколько ему это удалось, рассказывает Алеша Рогожин.
И. П. Смирнов. Ум хорошо, а два лучше. Философия интеллекта. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Содержание
 Вынесенное в аннотацию намерение автора книги — «заложить основания неоидеализма» — кажется вполне сознательной провокацией. Первую (или, по внутреннему счету, нулевую) главу Смирнов посвящает историческому контексту, в котором сама претензия вернуть в философию идеализм воспринимается как вызов: с одной стороны, гуманитарная мода сегодня возвысила материализм как никогда, с другой — все области культуры захвачены вниманием к телесности: от идеи неприкосновенности тела до культа здорового образа жизни; возвышенный характер умственной деятельности же, по мысли автора, профанируется пиететом перед искусственным интеллектом. В свете этого «Ум хорошо, а два лучше» предлагает нам вновь задуматься о той фундаментальной роли, которую человеческий интеллект играет в самой возможности построения культуры и всех ее феноменов (в том числе — материалистической философии и любого рода отношений с телом).
Вынесенное в аннотацию намерение автора книги — «заложить основания неоидеализма» — кажется вполне сознательной провокацией. Первую (или, по внутреннему счету, нулевую) главу Смирнов посвящает историческому контексту, в котором сама претензия вернуть в философию идеализм воспринимается как вызов: с одной стороны, гуманитарная мода сегодня возвысила материализм как никогда, с другой — все области культуры захвачены вниманием к телесности: от идеи неприкосновенности тела до культа здорового образа жизни; возвышенный характер умственной деятельности же, по мысли автора, профанируется пиететом перед искусственным интеллектом. В свете этого «Ум хорошо, а два лучше» предлагает нам вновь задуматься о той фундаментальной роли, которую человеческий интеллект играет в самой возможности построения культуры и всех ее феноменов (в том числе — материалистической философии и любого рода отношений с телом).
Итак, что же характеризует человеческий ум как условие возможности общества и культуры? Прежде всего, как подчеркивается названием книги, его двойственность. Она выражается в том, что человек в своем мышлении не привязан к чувственному миру: поток данных, предоставляемый органами чувств, не просто усваивается нами как таковой, а сперва опосредуется универсально применимыми категориями. Эти категории не врождены, они исторически и культурно подвижны и образуют собой духовный мир человека, позволяющий ему, с одной стороны, воображать себе ситуации, не имеющие прямого отношения к ближайшей ему действительности, ставить себе задачи, не вытекающие из его непосредственной жизнедеятельности, а с другой — представлять себя на чужом месте, мыслить свой собственный жизненный мир как частный случай, в известной степени взаимозаменяемый с любым другим частным случаем. Так свои соображения в конце книги суммирует сам Смирнов:
«Возносящийся над субстанцией ум учреждает свое царство по ту сторону эмпирической реальности. Социокультура начинается там, где кончается мир сей. Она инобытийна, будучи опрокидыванием на бытие нашего двуумия. Она удостоверяет свою инобытийность в истории — в постоянном стремлении шагнуть и за свой собственный предел. Если брать историю в большом объеме, то будет не слишком существенно, в чем выражается запредельность социокультуры бытию — в магии, религии, идеологии или науке, которая ведь в полноте своих поползновений жаждет изведать все что ни есть, попадая тем самым в позицию за краем сущего. Социокультура всегда в будущем, раз она идейна, то есть не закрепощена в своем материальном присутствии здесь и сейчас. Она в будущем и тогда, когда дарует умершим (то есть удаляющемуся в прошлое) еще одну — посмертную — жизнь».
При чем же здесь, собственно говоря, идеализм? Смирнов вовсе не думает опровергать естественно-научную картину мира или добавлять к ней метафизический фундамент, который отвечал бы за упорядоченность и/или познаваемость природы, как это было в классических идеалистических системах. Он признает, что человеческий мозг есть единственное возможное вместилище и материальная база интеллекта, — но одновременно противостоит биологизации самосознания, утверждая, что работа духа хоть невозможна без деятельности нервной системы, но не тождественна ей. Примат духа над материей Смирнов признает лишь в области внутреннего мира человека и в «социокультуре».
![]() Признает — но в общем никак не объясняет, ограничиваясь лишь демонстрацией различных областей человеческой жизни, которые будто бы свидетельствуют в пользу него. Последовательность демонстрируемого материала довольно условна, если не сказать произвольна. Автор то берется доказать, что в эпоху мифологического сознания интеллект обладал не меньшими способностями к эмпатии и абстрагированию, чем в эпоху сознания научного или идеологического, то излагает некую теорию организации гипотез в науке, искусстве и религии, то пытается разобраться в том, как в разных человеческих обществах и школах мысли воспринималась и функционировала ложь. Почти каждая глава либо предваряется довольно утомительным историческим обзором, либо им исчерпывается, когда Смирнов намеревается провести собственно исторический тезис. Конечно, не стоит забывать, что история философии — единственный метод ее изучения и один из важнейших способов ее производства. Однако здесь эти исторические заходы проблематичны практически в любом аспекте, за какой ни возьмись.
Признает — но в общем никак не объясняет, ограничиваясь лишь демонстрацией различных областей человеческой жизни, которые будто бы свидетельствуют в пользу него. Последовательность демонстрируемого материала довольно условна, если не сказать произвольна. Автор то берется доказать, что в эпоху мифологического сознания интеллект обладал не меньшими способностями к эмпатии и абстрагированию, чем в эпоху сознания научного или идеологического, то излагает некую теорию организации гипотез в науке, искусстве и религии, то пытается разобраться в том, как в разных человеческих обществах и школах мысли воспринималась и функционировала ложь. Почти каждая глава либо предваряется довольно утомительным историческим обзором, либо им исчерпывается, когда Смирнов намеревается провести собственно исторический тезис. Конечно, не стоит забывать, что история философии — единственный метод ее изучения и один из важнейших способов ее производства. Однако здесь эти исторические заходы проблематичны практически в любом аспекте, за какой ни возьмись.
Во-первых, когда Смирнов хочет показать определенную логику исторического развития «социокультуры», что бы под ней ни подразумевалось, он выражает ее в донельзя смутных и совершенно произвольных тезисах. Вот, например, краткое описание пути европейского человечества (все остальное человечество заслуживает так мало внимания, что Смирнову даже не приходит в голову утруждать себя оговоркой о европоцентричности его исторического экскурса):
«Шаг за шагом социокультура делает явными свойственные ей особенности: главенство умственного над физическим (эпоха „осевых религий” первогосударств и отграничения философии от веры); способность преодолевать актуальное состояние (раннее Средневековье) и устранять возникающую дефицитарность (позднее Средневековье); устремленность к господству над историей из современности (Ренессанс); потребность в поиске прочной опоры для ломких начинаний человека (барокко) и убежденность, с другой стороны, в их адекватности и интеллигибельности (Просвещение); свою автонегативность (романтизм); свою предназначенность налаживать связь между mundus intelligibilis и mundus sensibilis (реализм-позитивизм); невозможность выразить себя, пока духовное становление не подытожено, иначе, как символическим способом (Fin de Siécle); желание возобновлять генезис и быть историей (авангард-тоталитаризм). В постмодернизме социокультура признала наконец бывший всегда присущим ей редукционизм и сменила восходящую динамику на нисходящую, подступаясь к „гибели всерьез”».
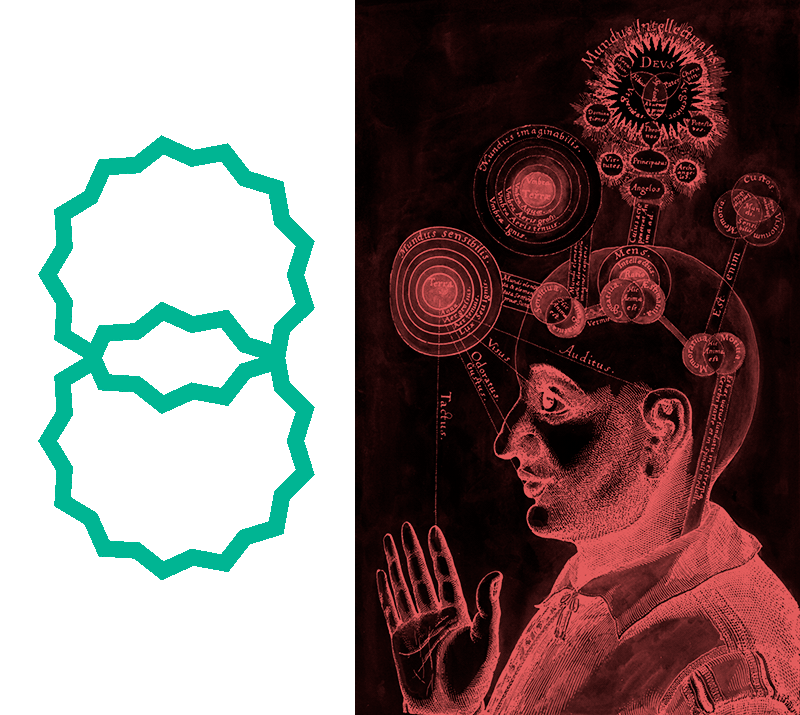 Хотя, согласно замыслу, мы должны увидеть здесь постепенное разворачивание свойств социокультуры, вытекающих из возможностей человеческого самосознания, какую-либо логику перехода от одного к другому обнаружить в этом перечне затруднительно; все выглядит так, будто автор, выделив ряд интересующих его особенностей человеческого интеллекта как такового, сопоставил их с теми эпохами европейской культурной истории, в которых они, по его разумению, впервые проявились ярко. При таком подходе подтверждать гипотезу можно практически чем угодно — в любой исторической культуре можно найти какой-нибудь феномен, чтобы он при помощи некоторой интеллектуальной эквилибристики предстал свидетельством «желания возобновлять генезис и быть историей» или «способности преодолевать актуальное состояние». А отсюда недалеко и до телеологической (то есть исходящей из уже известного итога) фабрикации аргументов. Вроде таких:
Хотя, согласно замыслу, мы должны увидеть здесь постепенное разворачивание свойств социокультуры, вытекающих из возможностей человеческого самосознания, какую-либо логику перехода от одного к другому обнаружить в этом перечне затруднительно; все выглядит так, будто автор, выделив ряд интересующих его особенностей человеческого интеллекта как такового, сопоставил их с теми эпохами европейской культурной истории, в которых они, по его разумению, впервые проявились ярко. При таком подходе подтверждать гипотезу можно практически чем угодно — в любой исторической культуре можно найти какой-нибудь феномен, чтобы он при помощи некоторой интеллектуальной эквилибристики предстал свидетельством «желания возобновлять генезис и быть историей» или «способности преодолевать актуальное состояние». А отсюда недалеко и до телеологической (то есть исходящей из уже известного итога) фабрикации аргументов. Вроде таких:
«Поскольку мир сей непостоянен в отличие от идеального, постольку он должен быть документирован, дабы его содержание не потерялось и дошло до потомков: таков был побудительный импульс для создания первых систем письма».
Другой дефект аргументации (которому идеалистическая интерпретация истории всегда была подвержена) заключается в том, что некий факт помещается в матрицу принятых автором категорий и в результате считается объясненным, в то время как на самом деле он просто повторен разными словами:
«Головокружительный взлет цен на живопись происходит из-за того, что иначе, чем в денежном выражении, духовная культура не может ныне осуществлять разграничения, благодаря которым ранее ее продукты были ценны относительно друг друга, а не на внешнем ей рынке».
Смирнов, иначе говоря, утверждает, что картины нынче делятся на дорогие и дешевые, потому что оцениваются в деньгах.
Наконец, «Ум хорошо, а два лучше», основываясь на обширном историко-философском материале, заимствует у него как всевозможные аргументы в пользу примата духа над материей в человеческой истории и суверенности интеллекта, так и целый ряд категориальных аппаратов различных школ мысли. Из-за этого, с одной стороны, авторский тезаурус раздувается до чудовищных размеров, а с другой — аргументы, почерпнутые в глубине веков, даже оказываясь вытащенными на поверхность, остаются старыми аргументами. Иными словами, если вы читали Платона, Канта, Гегеля, Гуссерля, Хайдеггера и Сартра — вы и так знаете все, что хотел бы сказать Смирнов (оригинальных тезисов в книге немного, в основном это просто любопытные наблюдения), а если нет — вы вряд ли поймете в этой книге хоть что-нибудь. Помимо терминологии, собранной изо всей истории европейской философии, язык этой книги дополнительно захламлен какими-то уж совсем странными заимствованиями («облигаторность» вместо «обязательности» или «семисфера» вместо «полушария» и т. д.) и совершенно непролазными грамматическими конструкциями. Многие из них, нужно признаться, нам распутать не удалось вовсе — возможно, скрытые в них тезисы способны снять все предъявленные выше претензии, но доступны лишь самым пытливым умам.
![]() Так все-таки имеет ли какой-либо смысл, несмотря на многочисленные неясности и огрехи, идея «обоснования неоидеализма», или эта попытка была обречена с самого начала? Представляется, что пространство для маневра в этом вопросе все-таки остается. Например, соотношение, как сказали бы раньше, объективного и субъективного факторов исторического процесса — все еще неисчерпаемая проблема. В свое время марксизм объяснил появление — среди всего прочего — протестантизма развитием рыночных отношений; в ответ Вебер продемонстрировал, что, наоборот, скорость развития рынка обусловлена протестантской этикой; критики Вебера указали, что вклад представителей других конфессий в новые экономические отношения был также очень велик, и т. д. На каждом витке этой дискуссии приводились свидетельства и того, как внутренние убеждения принуждали людей к преобразованию материального мира, и обратного — как материальные обстоятельства формировали внутренние убеждения. Ввиду того, что эти отношения оказываются тем более запутанными, чем больше мы о них узнаем, философия истории все еще открыта для новых объяснительных моделей, почему именно тот или другой фактор в конечном счете определил те или иные исторические процессы или почему определить таковой не удастся никогда.
Так все-таки имеет ли какой-либо смысл, несмотря на многочисленные неясности и огрехи, идея «обоснования неоидеализма», или эта попытка была обречена с самого начала? Представляется, что пространство для маневра в этом вопросе все-таки остается. Например, соотношение, как сказали бы раньше, объективного и субъективного факторов исторического процесса — все еще неисчерпаемая проблема. В свое время марксизм объяснил появление — среди всего прочего — протестантизма развитием рыночных отношений; в ответ Вебер продемонстрировал, что, наоборот, скорость развития рынка обусловлена протестантской этикой; критики Вебера указали, что вклад представителей других конфессий в новые экономические отношения был также очень велик, и т. д. На каждом витке этой дискуссии приводились свидетельства и того, как внутренние убеждения принуждали людей к преобразованию материального мира, и обратного — как материальные обстоятельства формировали внутренние убеждения. Ввиду того, что эти отношения оказываются тем более запутанными, чем больше мы о них узнаем, философия истории все еще открыта для новых объяснительных моделей, почему именно тот или другой фактор в конечном счете определил те или иные исторические процессы или почему определить таковой не удастся никогда.
Никто, пожалуй, поразмыслив, не станет отрицать, что история человеческих обществ действительно была бы невозможна, не будь у нас способности к абстрагированию от ближайших обстоятельств, фантазии и эмпатии, что человеческий мир, проще говоря, представляет из себя систему отношений и представлений, которые нельзя потрогать, а можно только помыслить и соотнести с предметами материального мира, служащих поводами для отношений и объектами для представлений. Поэтому основную интенцию книги нельзя назвать ни бессмысленной, ни устаревшей. Но актуальность проблем, вызвавших ее к жизни, указывает на то, что имеющиеся в арсенале истории философии решения либо не считаются ныне удовлетворительными, либо требуют более внятных и приспособленных к современной интеллектуальной повестке формулировок.
Увы, «Ум хорошо, а два лучше», излагая старые идеи в гораздо более неудобоваримом виде, чем в старых текстах, не удерживается на высоте своей интенции. Новый идеализм мог бы каким-нибудь неочевидным образом показать, как мышление обставляет материальность в игре взаимных детерминаций не только в каждом узелке социальной ткани, но и в масштабе всемирно-исторического орнамента, последовательно показав победу духа на каждом следующем уровне. Если бы доказательство чего-то подобного было возможно, это действительно реабилитировало бы идеализм. Вместо этого мы снова слышим старую песню о том, как первобытные люди выходят из Африки из-за ненасытной жажды познания мира как целого, затем империи распадаются из-за теологических разногласий и даже причиной брекзита служат воспоминания англичан о былой обособленности — просто потому, что отдельный человек способен абстрагироваться от ближайших обстоятельств и руководствоваться идеей.