Становление компостом в дни хтулуцена
Рецензия на книгу Донны Харауэй «Оставаясь со смутой»
Донна Харауэй хоронила антропоцентризм еще в 1980-е, гораздо раньше, чем это стало мейнстримом. Ее относительно новую, 2016 года, книгу «Оставаясь со смутой» можно читать как продолжение знаменитого «Манифеста киборгов» и чуть менее знаменитого «Манифеста видов-компаньонов». Максим Неаполитанский погрузился в гибридные сплетения философии с научной и не слишком научной фантастикой и поделился соображениями, которые оттуда вынес.
Донна Харауэй. Оставаясь со смутой: Заводить сородичей в хтулуцене. Пермь: Гиле Пресс, 2021. Перевод с английского Александра Писарева, Дианы Хамис и Полины Хановой. Содержание
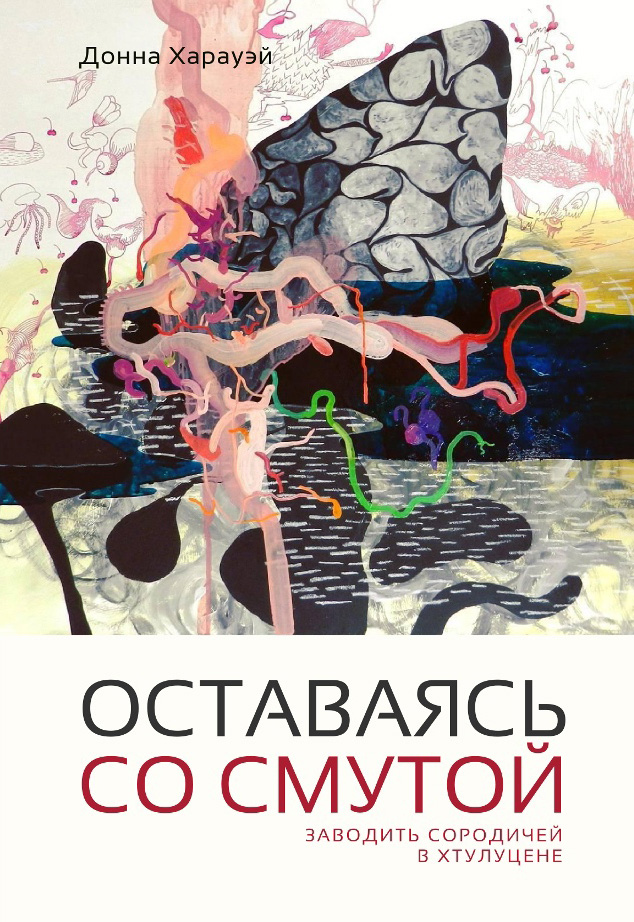 В недавно переведенной книге Донны Харауэй есть ряд ключевых слов, с которыми она работает большую часть времени. Компост, хтулуцен, сородичи, игра в веревочки, способность к ответу, смута, гумус, симпоэзис, твари. Эти слова меняют свое значение, переворачиваются и путаются. Харауэй любит создавать запутанности, в том числе языковые и эпистемологические, — для нее это метод рассказывать множество историй, которые она успела собрать в ходе философских исследований и теперь представляет в «Оставаясь со смутой». Сферы интересов Харауэй — феминистская философия, новый материализм, постантропоцентризм, антропология и литературоведение. Отсюда она заимствует различные инструменты и тактики, чтобы вести войну с изрядно надоевшим нарративом гуманизации и модерности, который помещает человека в центр мира и поддерживает его исключительность на основе парадигмального исключения остальных видов и существ, живых и неживых:
В недавно переведенной книге Донны Харауэй есть ряд ключевых слов, с которыми она работает большую часть времени. Компост, хтулуцен, сородичи, игра в веревочки, способность к ответу, смута, гумус, симпоэзис, твари. Эти слова меняют свое значение, переворачиваются и путаются. Харауэй любит создавать запутанности, в том числе языковые и эпистемологические, — для нее это метод рассказывать множество историй, которые она успела собрать в ходе философских исследований и теперь представляет в «Оставаясь со смутой». Сферы интересов Харауэй — феминистская философия, новый материализм, постантропоцентризм, антропология и литературоведение. Отсюда она заимствует различные инструменты и тактики, чтобы вести войну с изрядно надоевшим нарративом гуманизации и модерности, который помещает человека в центр мира и поддерживает его исключительность на основе парадигмального исключения остальных видов и существ, живых и неживых:
[Данный нарратив — это] почти комичное повторение одного и того же великого фаллического гуманизирующего и модернизирующего Приключения: человек, созданный по образу исчезнувшего бога, в своем секулярно-сакральном восхождении приобретает сверхспособности только затем, чтобы снова закончить трагическим бессилием.
Вместо этой Истории, одной единственной и «великой», Харауэй переходит к множеству других историй, которые еще предстоит рассказать. Для нее особенно важна речь от первого лица, «личные геоистории деантропоцентризации», то есть истории многоликой Земли, которые рассказывает человек вместе со своими сородичами. Книга Харауэй и есть сплетение историй на границе между академическим исследованием и философской фантазией. Они, с одной стороны, способны захватить читателя и перенести его в регионы гумустиарного мировосприятия («гумус» и «гумустиариев» Харауэй предлагает вместо привычных гуманитариев). С другой — множеств новых терминов, слов со смещенным значением, сплетений и запутанностей, а также само стремление «остаться со смутой» изрядно затрудняют восприятие текста. Распутать веревочки — вот что Харауэй предлагает читателю, чтобы создать свои собственные запутанности и сыграть в постантропоцентризм на свой манер. Пожалуй, это сделаем и мы.
«Я не постгуманистка, я — компостистка»
Харауэй пишет свою книгу будто бы на фоне хтулуцена. Это название эпохи, в котором слышится имя лавкрафтовского Ктулху; это ошибка. В самом начале книги Харауэй, чтобы избежать путаницы такого рода (все-таки ее любовь к плетению имеет свои границы) определяет хтулуцен следующим образом:
Хтулуцен — простое слово. Это сочетание двух греческих корней (khthōn и kainos), из которого возникает имя своего рода времени-места, в котором мы учимся оставаться со смутой жизни и смерти в режиме способности-к-ответу (response-ability) на поврежденной Земле. Kainos — значит «сейчас», время начала, время свежести времени...
Греческое слово «khthōn» Харауэй в контексте хтулуцена не поясняет, но пишет о хтонических существах, порожденных Землей: «Хтонические существа возятся в многотварном гумусе, но не хотят иметь дело с уставившемся в небосвод Homo». Действительно, слово «khthōn» нам понятно, оно связано с чем-то земельным, которое в случае сочетания с «kainos» оказывается свежим, открытым и обновленным.
Хтулуцен — время свежести времени на Земле, пронизанной и наполненной разными материальностями, тварями, существами и гумусом. Задача Харауэй в этом случае — освоить такое письмо, которое работало бы именно на фоне хтулуцена, на фоне «густого настоящего», но при этом было «свежим», лишенным прошлого и обращенным к другим видам (в этом также прослеживается цель освоить межвидовую коммуникацию). Подобного рода задача, к слову, усложняет и так непростой для перевода язык Харауэй (о чем говорили переводчики на презентации книг издательства в «Порядке слов»). Хтулуцен наступает после антропоцена и капиталоцена — эпох, когда единственным значимым актором был человек. Хтулуцену еще предстоит решить проблемы, которые создали большие истории капитализма и антропоса предыдущих периодов. Эта проблематика дает конструктивное начало для создания карты «времени на ощупь» и «списка» межвидовых историй, которые в нем рассказываются.
Для хтулуцена характерно и другое — единение человеческих и нечеловеческих существ, самых разных тварей и агентов, которые помещены в «одну компостную кучу». Они пребывают в становлении-с и пытаются выжить на поврежденной Земле. Становление-с, в свою очередь, включает в себя практики «жизни и умирания вместе», симпоэтическое творчество (вместо аутопоэтического), общее мирение, ткачество и много чего еще. Это основной способ совместной жизни, разворачивающейся в пределах хтулуцена. И симпоэтическое творчество, подключаясь к нему, играет этом способе важнейшую роль:
...земляне никогда не одиноки. Это радикальное следствие симпоэзиса. «Симпоэзис» — слово, подходящее для сложных, динамичных, реагирующих, ситуированных, историчных систем. Это слово для мирения-с, в компании. Симпоэзис охватывает аутопоэзис и генеративно развертывает и расширяет его.
Симпоэзис, хтулуцен и становление-с неразрывно друг с другом связаны. Они тоже смешиваются, запутываются и образуют компост, но уже на другом уровне. Можно сказать, что Харауэй пытается создать особую компостную эпистемологию, в которую включены все постантропоцентричные, феминистские, постколониальные и межвидовые практики интра-активности. Этот последний термин Харауэй заимствует у исследовательницы философии и физики Карен Барад, в чьих текстах «интра-активность» является синонимом «запутанности», взаимного проникновения агентностей и их прохождений друг через друга.
Харауэй даже дает себе особую идентификацию, связанную с компостом и его теоретическим осмыслением: «Я не постгуманистка, я — компостистка: все мы компост, а не постлюди». Таким довольно радикальным высказыванием Харауэй выражает важнейшую для своей философии мысль: пора уйти от пафоса постгуманизма, который все-таки продолжает отталкиваться от Человека, видит в нем точку отсчета, хотя и пытается ее нивелировать или забыть. Термин «постлюди» все равно манифестирует некоторую исключительность, новый этап развития человека, приставку «пост», сохраняющую за собой право размышлять о человеке в отдельности от видов-компаньонов. Иное же дело — состояние компоста, в котором уравниваются и смешиваются все акторы Земли. Именно «компост» и «компостирование» наиболее подходящие термины для времен хтулуцена и практик совместного становления, открывающих новые грани нашей способности к ответу.
От спекулятивного феминизма к тентакулярности
Продолжая создавать наложения и вязать веревочки из собственной эпистемологии и теории становления, Харауэй вводит зонтичный термин, короткую аббревиатуру из двух букв — СФ. За этими двумя буквами кроется целый рой терминов и словосочетаний, расшифровка которых почти невозможна без контекста. СФ — это и сайнс-фикшн, и спекулятивная фабуляция, и сплетенные фигуры, а также спекулятивный феминизм и сциентический факт. Харауэй предлагает читателю добавить свои интерпретации аббревиатуры и, тем самым, присоединиться к рассказыванию историй про компост, смуту, хтулуцен и гумус. Например, мы можем раскрыть СФ как странность фокусировки — колебания и ошибки взгляда в процессе рассмотрения неустойчивого мира. При этом СФ в некоторых случаях сам по себе оказывается отдельным понятием, не требующим дополнительной расшифровки, и в таком варианте Харауэй тоже дает ему определение:
СФ — это метод прослеживания, следования за нитью в темноте, в опасной правдивой истории о приключении, в которой кто выживет, а кто умрет и как, станет яснее в процессе культивирования многовидовой справедливости. <...> СФ — это практика и процесс; это становление-друг-с-другом в неожиданных комбинациях; это фигура продолжаемости во времена хтулуцена.
СФ помогает Харауэй собрать в одном месте и объединить очень разные явления современной философии, экологии и антропологии (вариант «сплетенные фигуры» как будто лучше всего подходит для этой аббревиатуры). При этом Харауэй оговаривает тот момент, что такое плетение и формирование нитей лишено стремления увидеть или спрогнозировать будущее. Будущее открыто, однако сплетения гетерогенных паттернов хтулуцена существуют и становятся-вместе здесь и сейчас, не имея права направить тентакулярное мышление своих акторов в «следующее время» (ведь неизвестно, какая эпоха придет на смену хтулуцену и придет ли вообще).
Следует отметить, что тентакулярное мышление и просто тентакулярность также расположены достаточно близко к СФ-практикам в компостном мире Харауэй. Их связывает множество контактных зон — с обеих сторон можно увидеть выброшенные вовне петли и крючки, сцепления которых материально значимы (материальной значимости и конкретности описываемых феноменов Харауэй уделяет особое внимание). Понятие «тентакулярность» происходит от латинского слова tentaculum, «щупальце», и, пожалуй, именно через «щупальце», через представление движения ощупывания наиболее полно можно его описать. Тентакулярность противостоит любым видам обособленности и отдельности, которые осуществляются с помощью принципов эксклюзивности. Щупальца и нити тентакулярности раскинуты по всем улицам и по всем местам Терра-полиса, фантастического места смутного времени, играющего роль вместилища и почвы для жизни и умирания сородичей и тварей. Как замечает Харауэй в начале книги, как бы предвосхищая свои последующие попытки показать возможности тентакулярного мышления, «идея обособленного индивида во всех ее проявлениях в науке, политике и философии, наконец-то, стала невозможной для мысли-с, стала немыслима ни технически, ни как-либо иначе». Тем самым, СФ-практики, тентакулярность и симпоэзис, о котором шла речь в начале статьи, находясь в одном теоретическом поле, конструируют особую сборку и сеть разнообразных способов сосуществования.
Быть приземленным и заводить сородичей!
Призыв «заводить сородичей» содержится даже в названии книги и является важнейшим лейтмотивом всего творчества Донны Харауэй. Это именно призыв, который следует писать с восклицательным знаком. Он встает в один ряд с другими «лозунгами» Харауэй — «Киборги за выживание на Земле», «Бегай быстро, кусайся сильно», «Заткнись и тренируйся» и наконец — «Заводить сородичей, а не детей». Важна и вторая часть этого призыва, так как она поднимает проблему родства или, точнее, качественного родства. Свою задачу Харауэй видит в следующем: сделать так, чтобы родство значило больше, чем просто связанность происхождением или генеалогией. «Новое» родство учит мышлению-вместе и мышлению с теми, кто рядом — буквально «сбоку» (в случае Харауэй — это ее собака, ставшая одним из адресатов книги, в случае же читателя это может быть любое существо-компаньон). Также сюда просится сравнение с процессом, который описывал Жиль Делёз, а вслед за ним Эдуарду Вивейруш де Кастру — переходом от отношений филиации и наследования к отношениям альянса. Харауэй переиначивает эту идею, само родство становится у нее похоже на альянс (оно приобретается) и к этой конструкции еще добавляется мышление-с, тоже материально значимое. «Материально значимо, какие мысли мыслят мысли» — именно так тавтологично пытается описать этот процесс Харауэй, переместив наше внимание на значение и качество совместного мышления. «Мы должны мыслить, мыслить мы должны!» — не раз повторяется в книге.
Заводить сородичей и организовывать родство — дело «благородное», и Харауэй с интересом замечает сходство этих слов:
Когда я была студенткой, меня тронула игра слов «родство» (kin) и «благородство» (kind) у Шекспира: сородичи в смысле семьи не обязательно будут благороднее и добросердечнее всех остальных. Заводить сородичей и обретать благородство [making kind] (как категорию или заботу, с помощью родных без кровных связей...) — эти действия отпускают воображение в полет и могут изменить историю.
О благородстве Харауэй пишет без человеческого пафоса — это не возвышающее благородство, оно не связано с Великим Homo, который единолично устремлен к небесам. Напротив, для нее важно, что заведение сородичей будет осуществляться на Земле акторами Терраполиса. По этой же причине Харауэй, используя термин Бруно Латуру, противопоставляет «Людей» (в модерновом смысле главенствующих субъектов) и «приземленных». Приземленные — это те, кто больше не апеллируют к готовым подручным решениям в виде Законов Истории, Современности, Государства, Бога, Прогресса, Разума, Науки и т. д. Приземленные рассказывают свои новые истории и мыслят тентакулярно, бесконечно становясь-с-сородичами и называя себя компостом. Они радикальные материалисты (а к радикальным материалистам Харауэй причисляет и себя), которые пытаются организовать войну — «испытывают силы без арбитра» — против «истории Героев, истории первых прекрасных слов и оружий». Отсюда уточненный лозунг — «Быть приземленным и заводить сородичей!».
Иногда создается впечатление, что Харауэй пишет «Оставаясь со смутой» из того времени, в котором исчезли многие проблемы современной философии: они либо сняты, либо преодолены, либо просто остались где-то позади и больше неинтересны — к примеру, то же разделение на природу и культуру. Наверное, это впечатление создается из-за того, что оптика Харауэй — это оптика личных переживаний и проживаний, это прямое обращение к запутанному философскому знанию. «Оставаясь со смутой» — сама по себе компостная куча и сумка-сеть с захватывающими историями, и проблемы универсального характера в ней не находят места. К тому же этих историй так много, что они часто заменяют сухую теорию яркими иллюстрациями, и поэтому вряд ли найдется читатель, который не сможет обнаружить историю на свой вкус и не испытает к книге эмпатии (как мы помним, геоистории касаются каждого).
Несмотря на любовь Харауэй к запутанностям, «Оставаясь со смутой» складывается в весьма слаженную карту Терры поврежденной, Земли времен хтулуцена, демонстрирующую основные траектории и ходы философии ее обитателей. «Дети компоста не прекратят многослойную, любопытную практику становления-с-другими для обитаемого и процветающего мира» — вот заключительные и обнадеживающие слова Донны Харауэй.