Срынь и дюрьмо: книги недели
Что спрашивать в книжных
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Аркадий Ипполитов. Мир — Россия — Петербург — Эрмитаж. М.: Красный пароход, 2024. Содержание
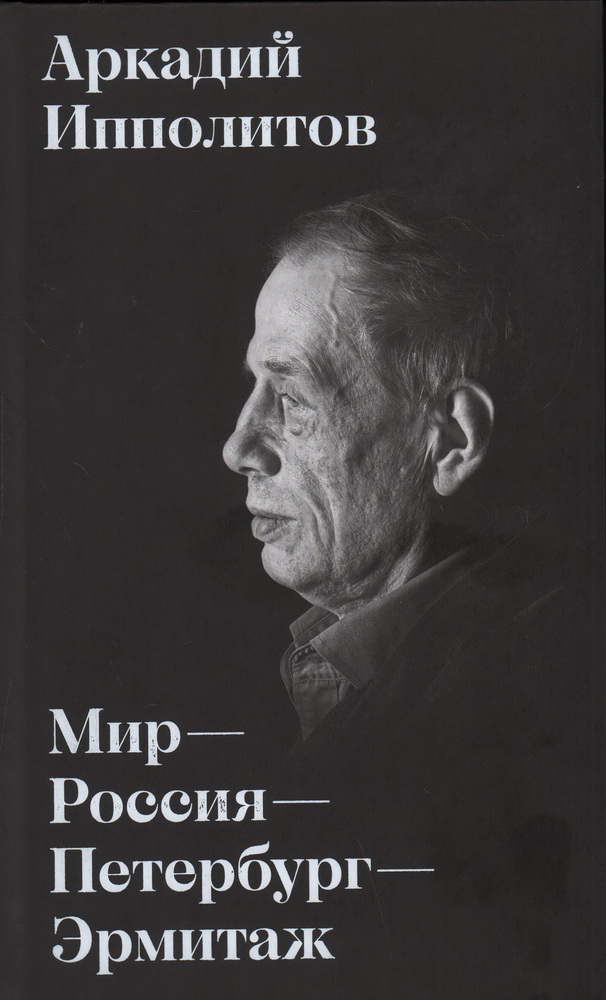 Сборник «петербургских» текстов искусствоведа Аркадия Ипполитова, в Петербурге родившегося и в нем же скончавшегося в ноябре прошлого года. Поэт Иосиф Бродский как-то заметил: «Если на два-три дня очутишься в Питере, то от него создается сатанинское впечатление». Нобелиат имел в виду, что оторопь его родной город вызывает лишь при поверхностном знакомстве.
Сборник «петербургских» текстов искусствоведа Аркадия Ипполитова, в Петербурге родившегося и в нем же скончавшегося в ноябре прошлого года. Поэт Иосиф Бродский как-то заметил: «Если на два-три дня очутишься в Питере, то от него создается сатанинское впечатление». Нобелиат имел в виду, что оторопь его родной город вызывает лишь при поверхностном знакомстве.
Кажется, Ипполитов с Бродским не согласен. Проникая в культурный ландшафт города на такую глубину, где головы живых организмов неизбежно лопаются от давления, он будто подтверждает все «демонические» стереотипы о Северной, извиняемся, Пальмире.
Вот коварный Тимур Новиков подговаривает Георгия Гурьянова вспомнить, чему его учили в художественном училище — в пику модным художникам, впаривающим красные квадраты падким на все «русское» европейским дельцам-мецентам. А вот выпускница с ветром в голове вздыхает на празднике «Алые паруса» — вычурно-«красивом» по форме и пусто-вульгарном по содержанию. Или вот депутаты важно заседают с пушкинистами за столом, на котором выведена цитата из непристойного стишка «нашего всего» (разумеется, не подозревая о подвохе). Попутно городской горизонт разрушает «газпромовская кукуруза», также известная как «Лахта-центр».
Петербург Ипполитова — город вывихов, парадоксов, бесовщины, населенный соответствующими персонажами. Несмотря на весь «элитарный», «европейский», «имперский» флер, Петербург — это воплощенная Россия, царство порядка там, где не надо, и хаоса там, где не полагается, империя грязи и позолоты, величия духа и полного морального ничтожества. Это город, который можно разрушить внешне, но содержание его будет одним и тем же — и через сто лет, и через двести, и даже когда глобальные климатические изменения наконец сделают свое дело и останется от «града Петра» один только шпиль Адмиралтейства. Суть его примерно такова:
«Перед Зимним дворцом, тогда еще деревянным, стоит деревянная же трибуна, наподобие тех, что сооружались при советской власти на Дворцовой площади во время парадов, на ней — Анна Иоанновна, мясистая, разряженная, с густо оштукатуренной рожей, рядом — Бирон, весь в розовом, как он любил, она ему в штаны руку засунула, мнет с плотоядной улыбкой, а сама уставилась на то, как перед ней на помосте опальным русским аристократам ноздри каленым железом рвут. Вокруг же все карлики, карлики, карлики, сзади поют-надрываются итальянские кастраты, Миних с Остерманом обнимаются, и фейерверки со всех сторон».
Дирк Ошманн. «Орки» с Востока. Как Запад формирует образ Востока. Германский сценарий. М.: КоЛибри, 2024. Перевод с немецкого Любови Ведерниковой. Содержание
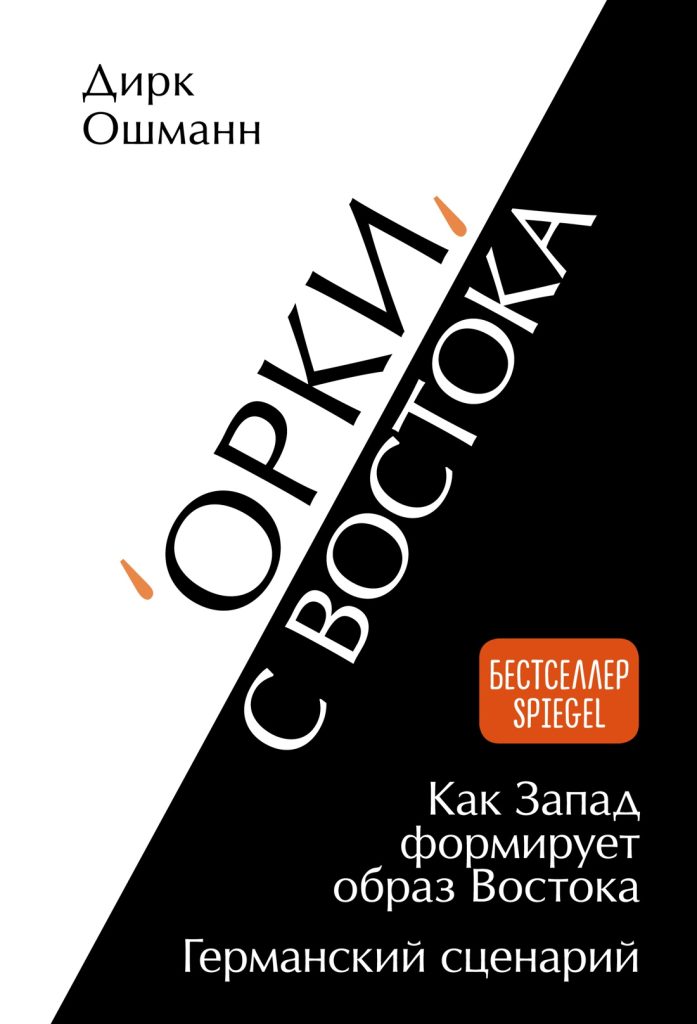 Литературовед Дирк Ошманн родился в 1967 году в Готе (ГДР), а ныне живет и работает в Лейпциге (до падения Берлинской стены — также ГДР). Ошманну кажется очевидным: со дня воссоединения Германии прошло более тридцати лет, но в то же время не прошло ни дня — «восточные» так и не стали «полноценными» членами немецкого общества и продолжают подвергаться неистовой дискриминации («Доля восточных немцев на высоких постах в сфере науки, управления, права, средств массовой информации и бизнеса в настоящее время составляет в среднем 1,7 процента»).
Литературовед Дирк Ошманн родился в 1967 году в Готе (ГДР), а ныне живет и работает в Лейпциге (до падения Берлинской стены — также ГДР). Ошманну кажется очевидным: со дня воссоединения Германии прошло более тридцати лет, но в то же время не прошло ни дня — «восточные» так и не стали «полноценными» членами немецкого общества и продолжают подвергаться неистовой дискриминации («Доля восточных немцев на высоких постах в сфере науки, управления, права, средств массовой информации и бизнеса в настоящее время составляет в среднем 1,7 процента»).
Более того, по мнению Ошманна, его земляки никогда и не смогут улучшить свое социальное положение, просто потому, что их «восточность» лежит в плоскости не объективной реальности, а относится к сфере воображаемого. «Восток» — это всего лишь идеологический конструкт, созданный «Западом». «Восток» — это пресловутый «другой», то есть «дикий», «загадочный» (в плохом смысле слова), «непредсказуемый» и в конечном счете «неполноценный».
Удивительно, но в этой книге, оригинальное название которой просто Der Osten, ни разу не упомянут другой литературовед — Эдвард Саид, хотя наблюдения, сделанные Ошманном, местами неотличимы от классического «Ориентализма».
А вообще Ошманн специалист по немецкому романтизму. Это не помешало его «Оркам» стать бестселлером — оно и понятно, время нынче кризисное, так что людям интересно, что и почему то ли распадается, то ли не распадается на их изумленных глазах. А главное — кого бить, когда по всей стране начнется.
«В каком-то смысле Восток социально интегрирован, но из дискурса и политической активности в значительной степени исключен. Восток часто попрекают адаптацией к диктатуре, прошлым, происхождением, а уж если человек говорит на саксонском или другом диалекте, то и языком. Таким образом, ставится под сомнение или даже разрушается то, что человек считает своей неотъемлемой самостью. Словно этого мало, образовавшийся вакуум заполняется всем тем, что люди на Западе думают о „Востоке“, превращая живущих там людей в „восточных немцев“ с приписываемыми им предрассудками, стереотипами, ресентиментом и так далее».
Наталья Мавлевич. Сундук Монтеня, или Приключения переводчика. М.: Иллюминатор, 2024. Содержание
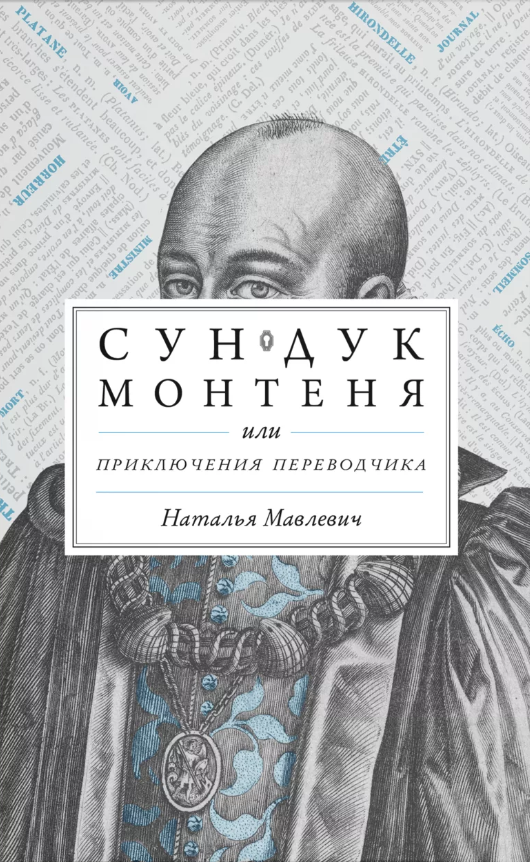 Воспоминания заслуженных переводчиков — чтение, как правило, безотказное: если человек всю жизнь занимается интересными вещами, вникая в мельчайшие подробности, то ему точно с избытком хватит на книжку историй, наблюдений и всевозможных соображений. Мемуары Натальи Мавлевич, переводившей Лотреамона, Монтеня и мн. др., на общем фоне выделяются, пожалуй, какой-то особенной человеческой теплотой и деликатностью, хотя все характерные для советского времени жизненные ориентиры в ее повествовании как положено присутствуют («На работу мы вас не возьмем, потому что двое ваших недавно в Израиль уехало»). Обстоятельства лишь слегка подсвечивают основной сюжет — захватывающе-монотонное течение переводческих будней с невидимыми миру трудами и видимыми результатами, которые давно уже были по достоинству оценены всеми, кто интересуется франкоязычной литературой. Профессиональным опытом Наталья Самойловна делится сдержанно и, что называется, без нажима, и в том числе поэтому ее правила жизни наверняка придутся по вкусу многим. Отдельно хочется отметить само издание, подготовленное издательством «Иллюминатор»: обширный иллюстративный материал в книжках «для взрослых» далеко не всегда бывает хорош и уместен, но это как раз тот случай.
Воспоминания заслуженных переводчиков — чтение, как правило, безотказное: если человек всю жизнь занимается интересными вещами, вникая в мельчайшие подробности, то ему точно с избытком хватит на книжку историй, наблюдений и всевозможных соображений. Мемуары Натальи Мавлевич, переводившей Лотреамона, Монтеня и мн. др., на общем фоне выделяются, пожалуй, какой-то особенной человеческой теплотой и деликатностью, хотя все характерные для советского времени жизненные ориентиры в ее повествовании как положено присутствуют («На работу мы вас не возьмем, потому что двое ваших недавно в Израиль уехало»). Обстоятельства лишь слегка подсвечивают основной сюжет — захватывающе-монотонное течение переводческих будней с невидимыми миру трудами и видимыми результатами, которые давно уже были по достоинству оценены всеми, кто интересуется франкоязычной литературой. Профессиональным опытом Наталья Самойловна делится сдержанно и, что называется, без нажима, и в том числе поэтому ее правила жизни наверняка придутся по вкусу многим. Отдельно хочется отметить само издание, подготовленное издательством «Иллюминатор»: обширный иллюстративный материал в книжках «для взрослых» далеко не всегда бывает хорош и уместен, но это как раз тот случай.
«Фирменное словечко Папаши Убю — Merdre! — помесь расхожего, довольно невинного ругательства с инфинитивной формой несуществующего глагола. Я долго искала что-то аналогичное и остановилась на в должной мере непристойном и, по-моему, вполне органичном для русского языка неологизме „срынь“ — тут тебе и существительное, и глагол в повелительной форме (есть же „сгинь!“), и дальним эхом „сарынь на кичку“, и произносить легко. Все-таки это пьеса, зритель должен мгновенно схватывать ухом смысл и звук произнесенного. В другом переводе аналогом слову merdre выступает несколько манерное „дюрьмо“. Кто ж так жеманно, по-дамски ругается!»
Алексей Маслов. История масонов в Китае. Великий Архитектор для Поднебесной. М.: РИПОЛ классик, 2024. Содержание
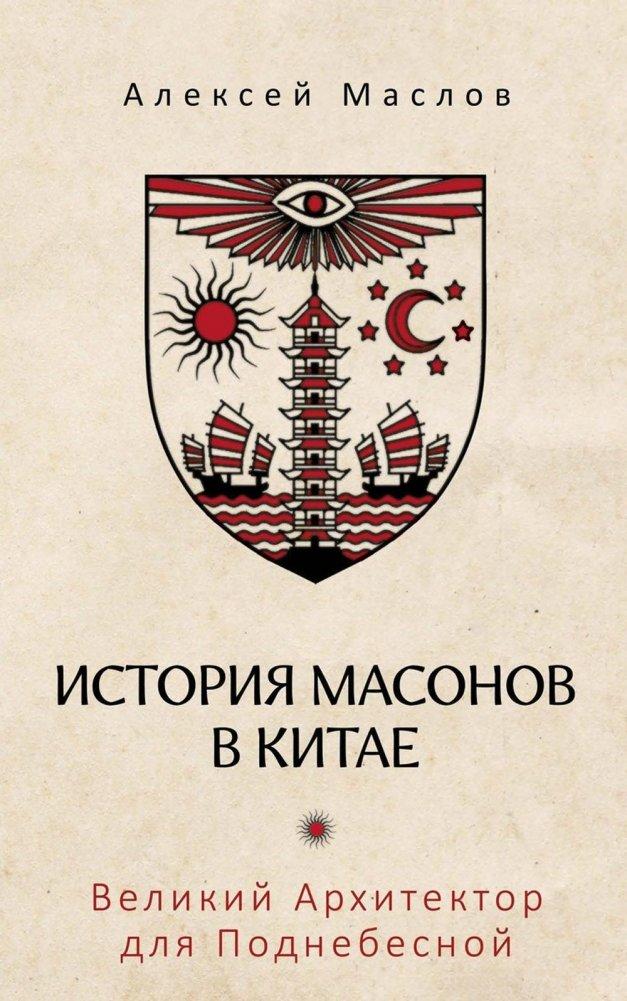 Масонство и Китай кажутся явлениями из непересекающихся вселенных, однако директор Института стран Азии и Африки доказывает, что здесь стоит размашисто перекреститься. В период с середины XIX века по 1950-е годы на территории Поднебесной действовали десятки масонских лож, некоторые просуществовали несколько лет, а некоторые — целое столетие. Членами этих организаций были всевозможные предприимчивые пришельцы из Америки, Европы, России, а также из Индии и Филиппин, уверенные, что несут универсальные ценности. Что интересно, в китайской традиции западные гости легко находили следы «протомасонской мудрости», уходившей корнями в тьму тысячелетий. Но, хотя ложи и набирали новых посвященных из числа туземцев, слияния культур не случилось. Как пишет Маслов, Китай, переняв у масонства ряд удачных организационных принципов и структур, а также деловые связи, полностью китаизировал это явление, «переварил» его и в конце концов исторг за свои пределы. Как это было — можно узнать из исторического исследования. Оно ориентировано в большей степени на изложение фактов, чем на рефлексивный культурный анализ, но тем не менее иного материла по малоизвестной теме российскому читателю будет сложно найти.
Масонство и Китай кажутся явлениями из непересекающихся вселенных, однако директор Института стран Азии и Африки доказывает, что здесь стоит размашисто перекреститься. В период с середины XIX века по 1950-е годы на территории Поднебесной действовали десятки масонских лож, некоторые просуществовали несколько лет, а некоторые — целое столетие. Членами этих организаций были всевозможные предприимчивые пришельцы из Америки, Европы, России, а также из Индии и Филиппин, уверенные, что несут универсальные ценности. Что интересно, в китайской традиции западные гости легко находили следы «протомасонской мудрости», уходившей корнями в тьму тысячелетий. Но, хотя ложи и набирали новых посвященных из числа туземцев, слияния культур не случилось. Как пишет Маслов, Китай, переняв у масонства ряд удачных организационных принципов и структур, а также деловые связи, полностью китаизировал это явление, «переварил» его и в конце концов исторг за свои пределы. Как это было — можно узнать из исторического исследования. Оно ориентировано в большей степени на изложение фактов, чем на рефлексивный культурный анализ, но тем не менее иного материла по малоизвестной теме российскому читателю будет сложно найти.
«На объединительной церемонии был принят и оригинальный знак Великой ложи Китая, который весьма точно отражал дух изменений и сочетал традиционные западные масонские и китайские символы: помимо наугольника, циркуля и всевидящего ока, эмблема содержала надписи на английском и китайском языках: „Все мы братья посреди четырех морей“ (四海之内皆兄弟, „Within four seas all are brothers“). По-китайски это выражение понималось как идиоматическое, связанное с высказыванием в „Лунь юй“ (глава „Янь Юань“), а поэтому хорошо воспринималось китайским менталитетом».
Бернд Карстен Шталь, Дорис Шредер, Ровена Родригес. Этика искусственного интеллекта. Кейсы и варианты решения этических проблем. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2024. Перевод с английского Инны Кушнаревой. Содержание
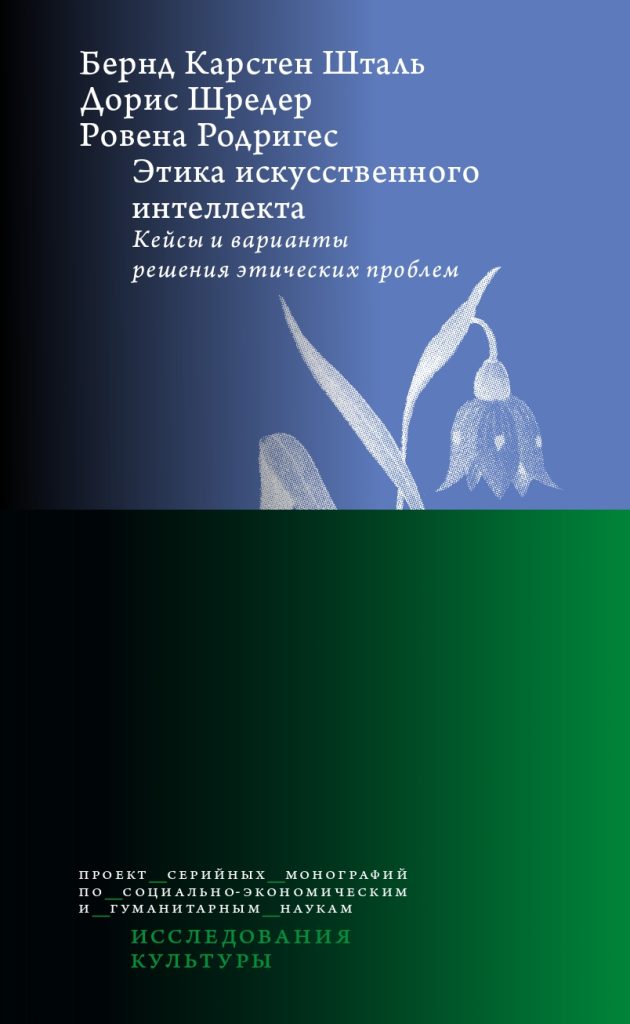 Нетолстый сборник, в который вошел разбор этических коллизий, связанных с применением искусственного интеллекта. Каждый кейс представлен как конкретная житейская проблема (скажем, система распознавания лиц отклоняет загранпаспорт азиата, поскольку «у него на фотографии закрыты глаза»), затем авторы помещают ее в более широкий контекст и дают обзор инструментов, которые могут проблему решить. Помимо ситуаций вполне очевидных — вроде описанной — попадаются и более сложные кейсы, и тут решения повисают в воздухе. Так, например, Шталь и ко разбирают оскорбляют ли секс-роботы достоинство женщин и девочек. Спойлер: с определенной точки зрения — да, оскорбляют, хотя авторы считают такую позицию слишком экстремальной и предлагают более умеренный взгляд, утверждающий ценность «сексуальной автономии». Темы, поднимаемые в книге, горячи, и тем резче с этой актуальностью контрастирует конторская манера изложения. Впрочем, от отчета по академическому проекту трудно было бы ждать чего-то более занимательного.
Нетолстый сборник, в который вошел разбор этических коллизий, связанных с применением искусственного интеллекта. Каждый кейс представлен как конкретная житейская проблема (скажем, система распознавания лиц отклоняет загранпаспорт азиата, поскольку «у него на фотографии закрыты глаза»), затем авторы помещают ее в более широкий контекст и дают обзор инструментов, которые могут проблему решить. Помимо ситуаций вполне очевидных — вроде описанной — попадаются и более сложные кейсы, и тут решения повисают в воздухе. Так, например, Шталь и ко разбирают оскорбляют ли секс-роботы достоинство женщин и девочек. Спойлер: с определенной точки зрения — да, оскорбляют, хотя авторы считают такую позицию слишком экстремальной и предлагают более умеренный взгляд, утверждающий ценность «сексуальной автономии». Темы, поднимаемые в книге, горячи, и тем резче с этой актуальностью контрастирует конторская манера изложения. Впрочем, от отчета по академическому проекту трудно было бы ждать чего-то более занимательного.
«Обратимся к опыту Великобритании. В 2017 году Королевская государственная прокуратура по уголовным делам запретила импорт секс-кукол с обликом детей в соответствии с „Законом о едином таможенном праве“ года, запрещающим импорт непристойных товаров [Danaher, 2019a]. Такой подход возможен, но в данном случае предлагались и другие юридические подходы, в частности применение британского законодательства о защите детей или „Закона о сексуальных преступлениях“ года [Chaerjee, 2020]. С другой стороны, „сторонники любви и секса с роботами будут утверждать, что секс-робот, похожий на ребенка, может представлять двойную выгоду: защищать детей от сексуальных насильников и тем самым лечить последних“ [Behrendt, 2018]. Одно из решений, избегающих крайностей, — ограничить использование секс-роботов с обликом детей случаями, требующими медицинского разрешения и под строгим медицинским надзором [Ibid.]».