Социальное государство мучеников
Рецензия на книгу об Исламской революции в Иране и ее последствиях
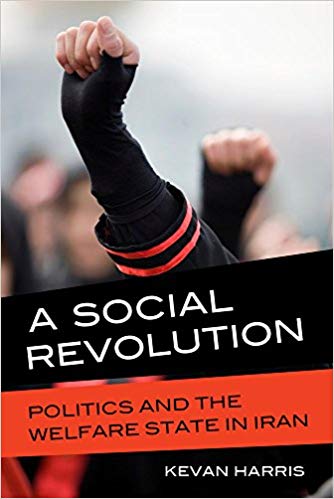 Kevan Harris. A Social Revolution: Politics and the Welfare State in Iran. University of California Press, 2017
Kevan Harris. A Social Revolution: Politics and the Welfare State in Iran. University of California Press, 2017
«Социальная революция: политика и государство всеобщего благоденствия в Иране» — первая, но порядком нашумевшая книга ирано-американского исторического социолога Кевана Харриса (настоящая фамилия — Харири), ученика Джованни Арриги и Георгия Дерлугьяна, сравнительно молодого исследователя, изучающего политэкономию развивающихся стран в Центре социальной теории и сравнительной истории Калифорнийского университета.
Следует начать с того, что в Иране действительно есть государство всеобщего благосостояния, и сразу указать на две проблемы: во-первых, это своеобразие иранской революции, поставившее под сомнение не одну теорию, объясняющую подобные явления, и, во-вторых, специфичность и малоизученность развитого там после революционных изменений социального государства. Многие даже не подозревают, что в Иране существует что-то подобное, и представляют себе лишь отсталую нефтяную деспотию аятолл, отчаянно пытающихся сделать атомную бомбу. Все дело в том, что большинство теорий, объясняющих функционирование социальных государств и различия между ними, выстроены исключительно на примерах развитых стран. Развивающиеся страны фигурируют в них гораздо реже, причем нередко как примеры провальных попыток создать социальное государство. Харрису удалось показать, что две эти иранские проблемы — плохо поддающаяся анализу революция и столь же непонятное социальное государство — отменяют друг друга, если заниматься ими не по отдельности (как обычно и делают), а одновременно.
В основе рецензируемой монографии — сравнение социального государства, созданного в Иране в ходе авторитарной модернизации династии Пехлеви в первой половине XX века, с тем, которое было выстроено после революции и существует поныне. Автор объясняет различия между ними и показывает, какие особенности первого стали причиной революции 1978–1979 годов и какие особенности второго привели к Зеленому движению, крупнейшему с революционных времен и возникшему в 2009 году как реакция на прошедшие с нарушениями выборы. В результате мы получаем совершенно новый взгляд на догоняющее развитие и революцию в Иране, а также новое объяснение того, какие силы вообще могут подталкивать рентное псевдодемократическое государство к расширению социального гражданства.
Принято считать, что нефтяная рента мешает государству стать по-настоящему демократическим и социальным. Государствам, сидящим на «нефтяной игле», нет необходимости договариваться с гражданским обществом о налоговых поступлениях в обмен на представительство и общественные блага. В рентных государствах социальные классы оформляются под воздействием государственного строительства, а не наоборот. Как остроумно отмечает Харрис, «Если лозунгом американской революции 1776 года было „Никаких налогов без представительства”, то идеал рентного государства, воплощающий его антидемократическую природу, противоположный: не нужно никаких налогов, но и политического представительства ждать не следует».
Загвоздка в том, что в экономическом отношении Исламская республика (новый режим) — как и старый режим Пехлеви — осталась рентным государством (экономического чуда импортозамещающей индустриализации в Иране так и не произошло), однако постреволюционное социальное государство оказалось более универсальным, инклюзивным и даже проблематично дорогим. Это особенно поразительно, если учесть, что в политическом отношении Исламская республика едва ли стала более демократической: политику в Иране по-прежнему делают элиты, а не массовые партии или классы, парламент не является центром политической жизни. Различия в стратегиях догоняющего развития также ничего не объясняют, учитывая, что после ирано-иракской войны Исламская республика была вынуждена вернуться практически к той же технократической стратегии догоняющей модернизации сверху, которую монархия Пехлеви проводила до революции.
То есть экономическая траектория Ирана непримечательна — за последние полвека большинство попыток развивающихся стран догнать развитые страны не увенчались успехом. Подчиняясь «эффекту Красной королевы» из «Алисы в Зазеркалье», им приходилось бежать все быстрее, чтобы только оставаться на месте. Однако в социальной сфере Исламской республике удалось добиться беспрецедентных успехов не только по сравнению с Ираном Пехлеви, но и с другими развивающимися собратьями. Как?

Банкнота в сто риалов с изображением тридцать четвертого шаха Ирана — Резы Шаха Пехлеви, 1932 год
Фото: worldbanknotescoins.com
Неожиданный ответ Харриса заключается в том, что альтернативным механизмом расширения социального гражданства в рентном государстве без сопутствующей демократизации (механизмом, ее подменяющим) был популизм. Популизм рассматривается Харрисом не в качестве постоянной формы правления или стадии политического развития, а в качестве временного мобилизационного оружия в конфликте элит. В обмен на временную поддержку со стороны неорганизованных масс, лидеры контрэлиты обещают им пересмотр социального контракта — блага социального государства. В случае успеха, частым последствием был рост ожиданий новых получателей социальных благ и/или новые требования демократизации с их стороны или со стороны их детей.
Сравнение старого и нового порядков в Иране приводит Харриса к выводу, что обращение к популизму было тем актуальнее, чем шире была коалиция правящей элиты и чем острее конфликты в ней. Узкая коалиция, напротив, способствовала тому, что государство использовало социальную политику с нефтяным финансированием для воспроизводства бюрократического и военного аппаратов, превращения потенциально оппозиционных групп в покорных клиентов и увеличения собственного потребления. Последнее достаточно хорошо описывает ситуацию в эпоху династии Пехлеви, с тем исключением, что она не была просто прогнившим коррупционным режимом, который провалил модернизацию или пошел по ложному ее пути. Напротив, причиной узости внутреннего круга элиты Пехлеви была рационализация, бюрократизации и технократизации армии и государства. Таким образом, революция 1978–1979 годов была, по Харрису, непредвиденным последствием ограниченно успешного девелопменталистского и социального проектов Пехлеви. То же самое верно и для Зеленого движения 2009 года — эта неудавшаяся революция была непредвиденным последствием куда более успешного социального развития Исламской республики.
А котировки цен на нефть, как оказывается, сами по себе в иранской динамике ничего не объясняют.
***
Авторитарный реформатор Реза Пехлеви (персидский Петр I начала ХХ века) пришел к власти в 1925 году. Его приоритетами были государственное строительство и догоняющая модернизация сверху. «Реза Шах» копировал авторитарную модернизацию Ататюрка, делая вид, что воплощает буржуазно-демократический проект Конституционной революции 1905–1911 годов. Современное государство и промышленность требовали персонала — государственных служащих и городских промышленных рабочих. Именно для усиления (выращивания) этих классов и была разработана адресная социальная политика. Начиная с закона о гражданской службе 1922 года она распространилась с бюрократов на рабочих государственных фабрик и шахт, транспортников и учителей. А рабочие частного сектора, в том числе иностранных нефтяных гигантов в Иране, остались не у дел.
В 1941 году в результате вторжения британских и советских сил в Иран Резу Шаха заменили его сыном Мухаммедом Резой. Протесты против иностранной агрессии в оккупированном Иране возглавили основные бенефициары социальной политики Резы — средние классы и промышленные рабочие. Пользуясь ослаблением центральной власти сыновья землевладельцев поспешили отобрать у технократов большинство министерских портфелей. В ответ активизировалась Народная партия Ирана, объединявшая городской «салариат» и интеллигенцию под лозунгами инклюзивного социального государства («Работа для всех», «Медицина для всех», «Пенсия для всех»). Зазвучали и требования национализации нефтяных компаний («Нефтяные прибыли для всех»). Результатом крупнейшего выступления иранских рабочих на Ближнем Востоке в 1946 году стали восьмичасовой рабочий день в нефтяных компаниях и первый в регионе Трудовой закон. Напуганный, но в то же время жаждущий реванша у землевладельцев, «шах-младший» предпринял популистские шаги по расширению социального страхования за пределы государственного сектора, учредив в 1949 году Министерство труда и здравоохранения. Были также проведены некоторые эксперименты с земельной реформой и избирательным правом для женщин.

Встреча президента США Франклина Делано Рузвельта и шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви. Художник: Герасимов А.М., 1944 год
Фото: sovcom.ru
Отделение Азербайджана и Курдистана (не без помощи СССР) привело к расколу в Народной партии по националистической линии, а после неудачной попытки покушения на шаха — к запрету партии. Этим умело воспользовался лидер Национального фронта Мохаммед Моссадык, первым выпустивший джина популизма из бутылки — практически та же стратегия, по мнению Харриса, была использована и в 1979 году. В самом начале 1950-х годов он мобилизовал широкий, но слабо сплоченный круг своих сторонников, чтобы провести закон о национализации нефтяных компаний и добиться в 1951 году премьерского кресла (бывший премьер Хадж-Али Размара, сопротивлявшийся национализации, был убит).
Чтобы вознаградить и укрепить разваливающийся Национальный фронт, Моссадык принялся расширять охват социального государства. Был создан прототип Организации социальной защиты (ОСЗ), действие которой было приостановлено после сместившего Моссадыка переворота 1953 года, но восстановлено шахом в 1970-х годах. ОСЗ централизованно контролировала все фонды социального страхования и включала в страховые программы рабочих средних предприятий.
Разделавшись с Моссадыком руками интервентов, Пехлеви запустил «Белую революцию». Социалка снова отошла на второй план, уступив первенство направляемому государством догоняющему рывку в экономике. Был запущен типичный для большинства развивающихся стран того времени набор крупномасштабных инфраструктурных проектов и капитальных инвестиций в промышленность, а также государственное планирование. Вначале это дало поразительный результат — рост ВВП на душу населения 8 %, но затем нефтяной выручки государства стало не хватать.
Пришлось занимать деньги у МВФ в обмен на сокращение государственных расходов и импорта. Результатом этого стала рецессия 1960–1964 годов, вызвавшая очередную волну народного недовольства и появление второго Национального фронта. Взлет цен на нефть в начале 1970-х ободрил девелопменталистские [т. е. ориентированные на догоняющее развитие — прим. ред.] планы шаха, но последующий нефтяной кризис поставил на них точку. Когда пришла революция, рационализация вооруженных сил и бюрократии (не в пример современным нефтяным монархиям Персидского залива c многочисленными родственными связями в этих сферах) сыграла с шахом злую шутку — на них нельзя было положиться. Сохранить лояльность тех групп, на которые были распространены социальные программы, также не удалось, поскольку их социальные ожидания выросли, но оказались обмануты.
Тремя основными столпами социальной реформы Мохаммеда Резы были земельная реформа, привилегии для членов корпоративных профсоюзов и государственных служащих, развитие образования в городских центрах и в меньшей степени в селах — последним в основном адресовалась программа здравоохранения. Целью перераспределительной земельной реформы было создание класса мелких производителей в противовес крупным землевладельцам. Реформа провалилась: в результате не вышло ни самодостаточного сельского класса, ни высокопроизводительного сельскохозяйственного сектора. Создание корпоративных профсоюзов было реакцией на волны рабочего протеста и имело своей целью отведение рабочего недовольства. Благодаря им эксклюзивное социальное государство охватило дополнительные 14 % промышленных рабочих негосударственных компаний. Заметные результаты были достигнуты и в образовании горожан: они напоминали перемены, произошедшие в Египте Насера. Прообразом Корпусов грамотности и здравоохранения в сельской местности послужила социалистическая Куба. Эти организации укомплектовывались выпускниками военно-медицинских институтов, которых отправляли на службу в село, а не в армию. Основная проблема этих корпусов, как, в общем, и всех социальных программ «Белой революции», заключалась в том, что они были организованы сверху, поэтому не отвечали на низовой запрос, были неадаптивны, не пользовались доверием и не вовлекали население в проекты шаха.
***
Революция 1979 года объединила мобилизацию тех социальных групп, которые были бенефициарами социального государства Пехлеви — студентов университетов, профессионалов, промышленных рабочих и государственных служащих, — с теми, кто отчасти справедливо считал себя исключенными из этой системы, так называемыми традиционными группами (крестьяне, рыночные торговцы и ремесленники, исламские клирики среднего уровня). Авторитарное строительство государства Модерна привело к политизации восставших. Тем не менее разные сегменты иранского общества не имели единого представления о том, что значит быть «современными» (modern). События 1978–1979 годов, по мнению Харриса, в основном стали результатом конфликта между государственной элитой и политизированной оппозицией по поводу того, что предполагает современный социальный порядок и кого он в себя включает.
1/2 8 сентября 1978 года. Революционеры во время протестов против режима Пехлеви Фото: public domain 2/2
8 сентября 1978 года. Революционеры во время протестов против режима Пехлеви Фото: public domain 2/2  Мужчины, держащие плакаты с портретом Рухоллы Мусави Хомейни, 1978 год Фото: public domain
Мужчины, держащие плакаты с портретом Рухоллы Мусави Хомейни, 1978 год Фото: public domain Хорошей иллюстрацией этого является интеллектуальный и лидерский феномен Аятоллы Хомейни. Традиционные группы иранского общества, исключенные из модернизационного проекта Пехлеви, также испытали глубокие трансформации. В пользу этого говорит сама идея «исламской республики», с которой Хомейни вернулся в Иран в 1979 году, хотя прежде эти два термина никто никогда не совмещал. По сути, эта идея была альтернативным проектом Модерна, который каждый из блоков революционной коалиции (большой дезорганизованный левый блок, либеральные религиозные националисты и «консервативный» исламистский блок) толковал на свой лад. Истоки конфликта элит нового режима были заложены еще до окончания революции. По этой причине после революции именно социальная политика сыграла ключевую роль в консолидации Исламской республики как национального государства. Организации социального государства, а не парламент стали ареной противостояния государственных элит и народного участия.
***
Продуктом первого революционного десятилетия стало то, что Харрис называет «двойственным» социальным государством «мучеников». Оно было двойственным, поскольку новые инклюзивные социальные организации стали просто надстраиваться прямо поверх старых, эксклюзивных и корпоративных организаций режима Пехлеви. Умножение числа организаций социального обеспечения также было следствием обострившегося конфликта элит широкой революционной коалиции. При этом постреволюционное социальное государство было еще и государством «мучеников», поскольку его первыми бенефициарами стали жертвы политических репрессий Пехлеви. Затем число «мучеников» пополнили те, кто был исключен из системы социального обеспечения Пехлеви, и наконец жертвы ирано-иракской войны. Разумеется, в самом названии государства присутствовала некая сакрализация получателей социальной помощи, мобилизующая гражданское общество на сотрудничество с государством в социальной сфере.
Рассказывая о внутриэлитном конфликте вокруг попытки первого президента Ирана Абольхасана Банисадра централизовать параллельные социальные институты, Харрис подчеркивает сходство с ситуацией вокруг Моссадыка, с тем отличием, что Банисадр и Базарган были лидерами левых, а не националистов. Отражением этого конфликта в экономике стал вопрос о степени вмешательства в нее государства. С одной стороны, консерваторы из Революционного совета сопротивлялись левому дирижизму советского образца, с другой — охотно национализировали землю, предприятия, внешнюю и большую часть внутренней торговли.
В социальной сфере центральное внимание в первые годы после Исламской революции было приковано к низшим классам, страдавшим от войны и инфляции, которую раскручивали обращения к печатному станку в отсутствие нефтяных поступлений из-за эмбарго. Была пересмотрена и расширена система субсидий и талонов: вместо субсидирования «предметов роскоши» типа красного мяса и коричневого сахара при Пехлеви, начали субсидировать товары первой необходимости — молоко, рис, керосин, подсолнечное масло, электроэнергию. Еще одним примечательным решением стали государственные рабочие места, количество которых выросло с 1,7 млн в 1976 году до 3,5 млн в 1986 году. Эта была не самая эффективная и прогрессивная социальная мера. Тем не менее она как нельзя лучше подходила для государства со слабой способностью к проникновению в глубь гражданского общества и сотрудничеству с ним, каким и была Исламская республика в начале своего пути.
Но не вся социальная политика была адресована низам. Государство также субсидировало цены на строительные материалы, стимулируя застройщиков, а государственные банки в 1980–1990 годы давали кредит под смехотворные для развивающихся стран 4 %. В результате высокой инфляции и низких кредитных ставок те, у кого был какой-то капитал, инвестировали именно в строительство, что и стало причиной строительного бума в первое десятилетие нынешнего века. Строительство стало заповедником частного сектора в Иране, поскольку торговля, законная и не очень, была доступна в основном тем, кто имел связи в политике. (Торговлей люксовыми западными авто в Иране «занимались»/«крышевали» их стражи революции).
***
Большинство компонентов «социального государства мучеников» непонятны западному наблюдателю, поскольку объединяют в себе не только социальные, но и экономические, и — вынужденно начиная с ирано-иракской войны — военные функции.
Комитет помощи Имама Хомейни (КПИХ) оказывал финансовую помощь и предоставлял медицинское страхование для малоимущих семей, давал беспроцентные кредиты на строительство, осуществлял дотации на образование и помощь пожилым людям в сельской местности. Во время войны с Ираком КПИХ также стал помогать армии с эвакуацией граждан в населенных пунктах, охваченных войной. Через КПИХ в проекты Исламской республики стали привлекать активистов и волонтеров. В итоге КПИХ из социальной организации превратился в том числе и в организацию логистической поддержки армии. Возникший позже Фонд мучеников (Боньяд Шехид) взял на себя обязанности финансовой помощи семьям, потерявшим в войне имущество или кормильца.
Одним из самых главных воплощений революционного социального государства в Иране, по мнению Харриса, стало создание клиник (домов) первичной медицинской помощи в сельской местности, которые внесли колоссальный вклад в сокращение рождаемости. Но главное — в результате функционирования этих клиник революционному государству удалось проникнуть в повседневную жизнь беднейших жителей периферии и, перефразируя заглавие знаменитой книги Юджина Вебера, превратить крестьян в иранцев. Правда, эти клиники были очень слабо технически оснащены, а их персонал напоминал китайских «босоногих врачей», с тем отличием, что их иранские коллеги получали университетское образование, в качестве платы за которое возвращались по распределению в родную деревню на два года, но в реальности оставались там навсегда.
Охват сельского населения Ирана первичной бесплатной медицинской помощью был потрясающим: с менее чем 30 % в 1983 году он вырос до практически 100 % к 2007 году. Естественно, по мере того, как «болезни бедных» сменились «болезнями богатых» («от диареи к диабету»), эффективность таких клиник сокращалась, и требовались новые решения. Но от болезней бедных Иран вылечили именно эти Айболиты.

Мечеть внутри пещеры в деревне Мейманд, Иран, 2018 год
Фото: ninara/flickr.com
Благодаря доступу к медицине, сократившему детскую смертность, росту доступа женщин к образованию и программам семейного планирования, в Иране состоялся необычайно быстрый демографический переход — от 6-7 до 2,2 детей на одну женщину за период с 1989-го по 2000 год, чего не предвидели ни государственные планировщики, ни международные организации. Естественно, изменившаяся демография не могла не оказать влияния на образование, рынок труда, пенсионную систему и социальное страхование. Обратной стороной этого стал рост гражданского самосознания и политической активности. Чтобы управлять этим более молодым, грамотным и политизированным населением, революционной элите нужен был новый проект догоняющего экономического развития, без которого выполнить все революционные обещания социальной справедливости и обязательства военного времени было просто невозможно.
Такой девелопменталистский проект был предложен правительством Хашеми Рафсанджани (персидского Дена Сяопина), который, наблюдая за коллапсом советского блока, пытался заменить государственное регулирование рынком везде, где возможно. Знаменитую речь Рафсанджани 1990 года, в целом отражающую максиму Сяопина «богатым быть почетно» (или «в накоплении нет ничего противоречащего исламу»), называют «манифестом белых хезболла». То, что не успел Рафсанджани, завершила администрации его преемника Хатами, пятого президента Ирана (1997–2005). «Используя аналогию с Советским Союзом, можно сказать, что Рафсанджани был тем, кто запустил, но, увы, провалил экономическую перестройку, а Хатами и его союзники-реформисты — теми, кто инициировал политику гласности в надежде использовать нарастающую мобилизацию недовольных масс, чтобы подтолкнуть сопротивляющихся консерваторов к реформам», — пишет Харрис.
Примечательно, что параллельно либерализации и дерегуляции экономики Рафсанджани не сокращал, а расширял социальное государство. К этому его подталкивали не только политические соображения борьбы элит (в его случае — с консерваторами) и обещания военного времени, но и то, что он видел в образовании и медицине производительный рычаг. Учитывая послевоенную социально-экономическую и демографическую ситуацию, эти соображения имели смысл. Одним словом, социальная политика Рафсанджани предполагала расширение корпоративных социальных организаций и социальных схем, доставшихся от Пехлеви, и модернизацию тех структур, которые были надстроены во время войны таким образом, чтобы они отвечали растущим послевоенным запросам. Результатом первого направления стала чрезвычайно щедрая пенсионная система с крайне низким возрастом выхода на пенсию. Ее явной целью была расчистка рынка труда для входа на него бэби-бумеров начала 1980-х годов, скрытой — выталкивание женщин с рынка труда.
С описанным пенсионным маневром были теснейшим образом связаны расширение охвата ОСЗ и фрагментарной медицинской системы.
***
Непредвиденным последствием щедрой пенсионной и страховой системы и стремления к мобильности через образование стало перепроизводство и частичное обесценивание дипломов, особенно в медицине (количество медицинских школ в Иране выросло между 1979-м и 1994 годами с 7 до 34). При этом большинство студентов-медиков составляли женщины. Субсидирование первичных медицинских услуг, фрагментарность медицинского страхования и растущий спрос на специализированные медицинские услуги привели к перепроизводству специалистов, которое не вело к сокращению стоимости услуг. Попытка министра здравоохранения правительства Хатами перейти к субсидированию специализированной медицинской помощи провалилась в 2004 году, встретив сопротивление консерваторов, приоритетом которых оставалось расширение базовых медицинских услуг для жителей сельской местности. Среди горожан, численность которых к тому времени стала в два раза превышать численность селян, популярнее стали частные клиники и специализированные доктора, пусть за прием у них и приходилось платить из собственного кармана. Но это, когда есть чем платить. (Знакомо звучит?)
Переориентация социального государства в условиях в целом неудавшегося догоняющего рывка требовала дополнительных расходов, в то время как главной головной болью Рафсанджани была инфляция. Оставляя в стороне такие чисто экономические меры, как контроль за капиталом и создание зон свободной торговли, можно отметить план по либерализации цен за счет отмены субсидирования базовых потребительских товаров. Отмена этой вынужденной меры военного времени была первой в списке либеральных реформ, рекомендуемых МВФ. Однако упразднить их и удержаться в президентском кресле Ирана было практически невозможно: парадокс заключался в том, что усиливающиеся средние классы выигрывали от них больше нижних классов, поскольку потребляли больше субсидируемых товаров.
***
Как учит нас Токвиль, любая революция по прошествии ряда лет оказывается не разрывом, а элементом преемственности со старым режимом. Вот и Харрис всячески подчеркивает сходство технократических девелопменталистских планов Рафсанджани с планами эпох Пехлеви, вплоть до схожих причин их неудачи. Повторить восточно-азиатское экономическое чудо не удалось, нефть так и осталась основным источником ресурсов для иранского государства всеобщего благосостояния. Но результатом отчасти успешного экономического рывка при Рафсанджани вновь стал рост среднего класса. В свою очередь, этот средний класс изменил тип популизма, к которому приходилось прибегать соперничающим элитам. Теперь же конфликт элит приводил не столько к социальной политике, снижающей абсолютный уровень бедности, сколько к политике неравенства (перераспределение в пользу бедных за счет средних классов или в пользу средних классов за счет бедных).
Именно по этой причине и Хатами, и его преемник Ахмадинежад обращались к лозунгам «социальной справедливости» и «участия». Это опровергает популярную интерпретацию прихода к власти Ахмадинежада как результата использования популистской политики. Если он и обращался к популизму, то это был популизм не в интересах самых бедных (что было бы проигрышной стратегией), а в интересах абсолютно всех, кто был недоволен статус-кво. То же верно и для Хатами, неожиданно набравшего 70 % голосов в 1997 году — за него голосовали выходцы из семей, получивших выгоды от социальной политики военного времени и образовательной системы, но не имевших возможности обменять свой социальный капитал на материальный. Позднее они же составили костяк Зеленого движения 2009 года.

Общественный протест после выборов 2009 года
Фото: Hamed Saber
***
Выборы 2005 года были не отказом от либерально-экономического проекта Рафсанджани, а реакцией на его неспособность сдержать свои обещания. В идеологическом плане сторонники Ахмадинежада провозглашали себя «принципалистами», то есть стремящимися к релегитимации революционного проекта, а не «фундаменталистами». В социальном плане эта неоконсервативная элита происходила прямо из политического истеблишмента и представляла собой «новый класс» функционеров, которые занимали средние административные посты в революционных и правительственных организациях в течение большей части 1990-х годов. Эти люди были уже не клириками, а инженерами и менеджерами, часто занимали посты провинциальных бюрократов. За Ахмадинежада проголосовали не только государственные лоялисты, но и часть бывших сторонников Хатами, так и не дождавшихся справедливого распределения социальных возможностей.
От реформистов Хатами Ахмадинежада выгодно отличал четкий акцент на острых экономических проблемах, таких как инфляция и безработица, а также призывы к спартанскому образу жизни и личный пример вместо элитарного прозападного потребительского (который, в общем-то, проповедовал Рафсанджани). В экономическом плане Ахмадинежаду, в отличие от предшественников, повезло с нефтяными ценами, которые показали исторический максимум в 2008 году. Благодаря им Ахмадинежад пытался создать образ технократа, которому по силам закончить все незавершенные проекты и стройки прошлых правительств.
Но если в начале своего правления Ахмадинежад отстаивал государственное вмешательство в экономику, то после нескольких лет ощутимых расходов на догоняющее развитие он зазвучал совершенно так же, как и его либерально-технократические предшественники: слияние министерств, реформирование налогообложения, приватизация банков, наращивание несырьевого экспорта, либерализация цен путем отказа от субсидирования. В результате часть консервативной элиты, прежде поддерживавшая его, от него отвернулась, запустив очередной виток конфликта элит.
В социальной сфере Ахмадинежад попытался сделать социальное государство действительно универсальным, распространив его на «серую» занятость, которая была головной болью Рафсанджани и Хатами. После эмбарго на экспорт иранской нефти в Европу в 2009 году в качестве одной из санкционных мер против атомной программы Ирана, Ахмадинежад не смог сделать этого за счет нефтяных денег. Ценой стала отмена субсидирования потребительских товаров первой необходимости. Сэкономленные на субсидировании средства также предполагалось пустить на денежные трансферы бедным. Однако Зеленое движение среднего класса сопротивлялось отмене субсидирования, считая это выпадом против себя, и внесло свои коррективы, «размазав» трансферы по тарелке и превратив их в бледное подобие безусловного базового дохода в богатых странах. Харрис подчеркивает, что в итоге перед Ираном и его моделью социального государства открылось два пути: более эксклюзивное социальное государство и авторитарные политические структуры (как в эпоху монархии Пахлеви) или же более универсальное социальное государство и более демократические структуры.
***
Зеленое движение 2009 года анализируется Харрисом в двух ракурсах — в краткосрочной перспективе как постэлекторальный протест в контексте борьбы элитных фракций консерваторов и реформистов, а также в исторической перспективе государственного строительства в Иране и восхождения среднего класса. По мнению Харриса, оно началось как низкорисковая массово-ритуальная активность с режимом свободного входа и выхода, распаленная телевизионными дебатами Ахмадинежада и его соперника Мусави еще до оглашения результатов выборов. Затем произошло переплетение внезапно возникшей в предвыборный период оппозиционной культуры и копившегося годами недовольства государством. Быстрые всплески общественного протеста объединили слабосвязанную широкую коалицию в более или менее гомогенное эмоциональное пространство высокой ритуальной интенсивности. В этом отношении Зеленое движение очень напоминало революцию 1978–1979 годов. В более широком историческом контексте оно представляло собой во многом типичную для Ирана попытку требований демократизации и представительства со стороны основного бенефициара созданного ранее социального государства. В послевоенном Иране таким бенефициаром был растущий средний класс, определяемый скорее по образовательному и профессиональному, а не материальному критерию.

Кеван Харрис
Фото: archivalinstitute
Харрис проделал большую работу, исследуя социальный состав и коллективные идентичности Зеленого движения, о котором существует достаточно много противоречивых сведений и мнений. Для этого он использовал ряд косвенных данных: данные о социальном происхождении жертв протестов, данные о месте жительства задержанных тегеранских демонстрантов, данные о долгосрочных трансформациях (за последние 30 лет) в структуре занятости Ирана, личные наблюдения, сведения из интервью и т. д. Это движение было кроссклассовым, чему изрядно способствовало городское пространство Тегерана с костяком из представителей среднего класса — не узкой прослойки элиты, а именно широкого и мощного среднего класса, возникшего как результат успеха социальной политики Исламской республики. Большую часть активистов Зеленого движения составляли студенты, дети неквалифицированных рабочих или рабочих неформального сектора, которые первыми в семье получили высшее образование и ожидания социальной мобильности которых оказались обмануты. Это была слишком образованная, но безработная или работающая на позиции ниже, чем позволял диплом, молодежь. Причину блокировки возможностей для мобильности они усматривали в чрезмерно коррупционном и забюрократизированном государстве. Позднее похожие протесты прокатились по Ближнему Востоку во время Арабской весны, в России в виде движения за «честные выборы» и в других развивающихся странах с растущим средним классом.
Почему же при всех многочисленных сходствах между революцией 1978–1979 годов и Зеленым движением 2009 года последнее потерпело поражение? Как уже было отмечено, Исламская республика достигла гораздо больших успехов в социальной сфере, чем режим Пехлеви. Если революции удалось сплотить включенных и исключенных из социального государства Пехлеви, то на момент возникновения Зеленого движения исключенных практически не осталось — все иранцы прямо или косвенно оказались связаны с системой социального государства, будь то в виде медицины, страхования, образования, планирования семьи, трудоустройства, урбанизации и т. д. Другой причиной, которую подчеркивает Харрис, является слабость кроссклассовых связей: на пике движения их возникло очень много, но к их поддержанию ядро среднего класса не стремилось. Революционеров 1978–1979 годов сплачивал проект альтернативного Модерна (хоть и по-разному понимаемого), а единство демонстрантов Зеленого движения подрывала индивидуализация их общих проблем.
Обобщить заключения, к которым приходит Харрис, можно с точки зрения противоречий социальной политики в просистемных и антисистемных девелопменталистских государствах, используя терминологию Дж. Арриги. Первые обычно успешнее в догоняющем экономическом развитии, однако залогом этого успеха является их эксклюзивность в политическом и/или социальном плане, из-за чего население в массе не получает плодов этого развития. Антисистемные девелопменталистские государства, напротив, более успешно вовлекают население в свои проекты догоняющего развития путем развертывания инклюзивного социального государства, повышающего ожидания масс. Если просистемным девелопменталистским государствам угрожают исключенные, то антисистемным — растущие ожидания включенных социально, но не политически масс. Сильно упрощая, можно сказать, что революция 1978–1979 годов превратила Иран из просистемного в антисистемное девелопменталистское государство — а Россия с распадом Советского Союза претерпела, скорее, обратную трансформацию. Если верить Харрису, то о возможных ответах развивающихся рентных государств на требования продолжения социального банкета со стороны усиливающегося и растущего среднего класса можно судить, глядя на широту коалиции элиты и остроту конфликта внутри нее.