Социалистический сюрреализм Александра Проханова
Георгий Мхеидзе — о новом романе живого классика
Александр Проханов. ЦДЛ. Оплавленный янтарь. М.: Вече, 2021
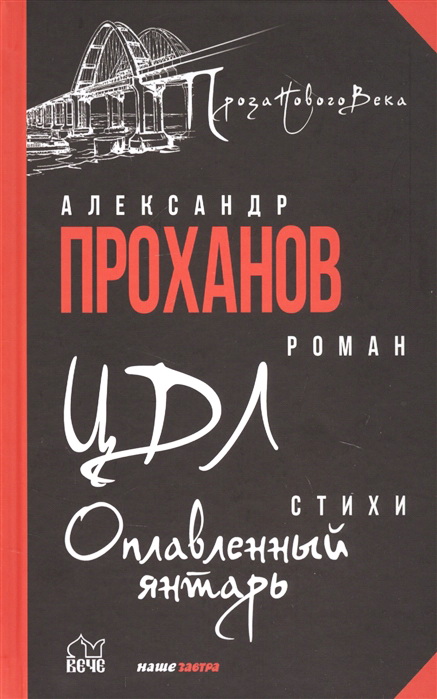 Москва, вторая половина 1980-х. Очеркист «Литературки» Виктор Куравлев, успешный 40-летний автор нескольких книг и завсегдатай питейных заведений Центрального дома литераторов, по уши влюбляется во встреченную в Пестром зале тамошнего ресторана пухлогубую блондинку с милым растерянным лицом. Помимо нее, интерес к герою вдруг начинают проявлять и более серьезные силы, — от секретариата Союза писателей до иудейских мудрецов с Аэропорта, в квартирах которых, по слухам, и вершится реальная судьба писателей и всей советской литературы. Однако после командировки в Афганистан и серии брутальных милитаристских батальных очерков выбор оказывается сделан: в ЦДЛ Куравлеву шипят в спину и не подают руки, зато государство награждает квартирой на Тверской, визитом в станицу к Шолохову и личным знакомством с цэковским ястребом Баклановым. Но 1980-е стремительно заканчиваются, неумолимый узел времени все туже затягивает обреченную страну, а Куравлев, служитель культа ВПК и адепт индустриальной мощи державы, первым чувствует неслышные пока обычному уху скрипы и конвульсии гигантского механизма и потерю его управляемости. «Куравлев видел, что жизнь, его окружавшая, выворачивается наизнанку <...> Чувствовал, что работает огромная машина. Подпиливает опоры, разносит вдребезги стены, перекусывает связи, раскалывает плиты. И вся незыблемая мощь государства начинает крениться, оползает, грозит рухнуть, засыпать живых своими уродливыми обломками. Он видел очевидные признаки перемен, но не мог обнаружить глубинную волю, совершающую разрушение. Все видимые персонажи, их поступки, интриги, замыслы, были понятны. Непонятен был глубинный замысел разрушения, те потаенные могущественные люди, о которых говорил Макавин». Поиску глубинного замысла и потаенных могущественных людей и будет посвящена вторая половина романа, а рушащаяся любовь героя окажется предсказуемой рифмой к разрушению советского мира.
Москва, вторая половина 1980-х. Очеркист «Литературки» Виктор Куравлев, успешный 40-летний автор нескольких книг и завсегдатай питейных заведений Центрального дома литераторов, по уши влюбляется во встреченную в Пестром зале тамошнего ресторана пухлогубую блондинку с милым растерянным лицом. Помимо нее, интерес к герою вдруг начинают проявлять и более серьезные силы, — от секретариата Союза писателей до иудейских мудрецов с Аэропорта, в квартирах которых, по слухам, и вершится реальная судьба писателей и всей советской литературы. Однако после командировки в Афганистан и серии брутальных милитаристских батальных очерков выбор оказывается сделан: в ЦДЛ Куравлеву шипят в спину и не подают руки, зато государство награждает квартирой на Тверской, визитом в станицу к Шолохову и личным знакомством с цэковским ястребом Баклановым. Но 1980-е стремительно заканчиваются, неумолимый узел времени все туже затягивает обреченную страну, а Куравлев, служитель культа ВПК и адепт индустриальной мощи державы, первым чувствует неслышные пока обычному уху скрипы и конвульсии гигантского механизма и потерю его управляемости. «Куравлев видел, что жизнь, его окружавшая, выворачивается наизнанку <...> Чувствовал, что работает огромная машина. Подпиливает опоры, разносит вдребезги стены, перекусывает связи, раскалывает плиты. И вся незыблемая мощь государства начинает крениться, оползает, грозит рухнуть, засыпать живых своими уродливыми обломками. Он видел очевидные признаки перемен, но не мог обнаружить глубинную волю, совершающую разрушение. Все видимые персонажи, их поступки, интриги, замыслы, были понятны. Непонятен был глубинный замысел разрушения, те потаенные могущественные люди, о которых говорил Макавин». Поиску глубинного замысла и потаенных могущественных людей и будет посвящена вторая половина романа, а рушащаяся любовь героя окажется предсказуемой рифмой к разрушению советского мира.
Здесь следовало бы начать абзац с того, каким по счету романом у Проханова стал «ЦДЛ», но установить это, к сожалению, затруднительно: всего книг у бессменного главреда «Завтра» вышло более семидесяти, и часть из них — сборники публицистики. А сами романы автор часто переиздает в нескольких редакциях под разными названиями; так, одна из лучших вещей Проханова, роман «Красно-коричневый» о расстреле Белого дома (так сказать, его «Девяносто третий год») сперва стал «Парламентом в огне», а теперь называется «Среди пуль». Однако ожидания многих поклонников Александра Андреевича, в том числе и автора этих строк, были велики — выбор ЦДЛ в качестве метафоры «сокровенного ковчега» русской культуры, плывущего среди бурных и мутных исторических вод и принимающего на борт как обласканных успехом, так и тонущих, и потерянных, казался удачным и перспективным ходом. Сам я с трепетом предвкушал нечто вроде новой «Надписи» — возможно, самой значительной его книги, блестящей тысячестраничной ретроспекции полуподвального советского 1968-го в головокружительном диапазоне от светского салона на Сретенке, куда захаживают «умные машинисты» власти Арбатов, Бовин и Примаков, до перверсивных оргий мамлеевского Южинского кружка. Тем более что в плане скандалов, интриг и тайн ЦДЛ явно способен был дать фору любому, пусть самому придворному, столичному салону.
Надо сказать, что «ЦДЛ» действительно обнаружил немалое сходство с «Надписью», но в несколько разочаровывающем ключе. Говоря в кинематографической терминологии, это не сиквел, а скорее малобюджетный ремейк. Буквально с первых же глав возникает смутное ощущение узнавания, которое к финалу обернется уверенностью. Почти вся сюжетная канва и некоторые ключевые сцены «ЦДЛ» окажутся сконструированными или просто импортированными из самых удачных предыдущих вещей автора — в первую очередь из упомянутой «Надписи» и не менее блестящего «Последнего солдата империи». Мы это уже где-то читали и узнаем то красный москвич героя, то кабинет с пишмашинкой «Рейнметал» и деревянными лошадками на полке, то саму квартиру (где до Проханова жили Ираклий Андроников и Исаковский). Читали и сцену с инсультом Георгия Маркова прямо за трибуной съезда Союза писателей, на котором он планировал ввести Проханова в президиум, но странная смерть оборвала готовую стремительно начаться номенклатурную карьеру автора. И сцену, где герой унимает и усаживает в такси буянящего Юрия Домбровского, попросив проходящего мимо милиционера шепнуть ему «Гражданин, в машину!» и обманом включив у бывшего зэка инстинкт послушания. И даже про знакомство с будущей возлюбленной, разве что в «Надписи» она стоит в полукруглом проеме входа, а в «ЦДЛ» — в очереди к бару. Более того, внимательные читатели блестящей биографии Льва Данилкина «Человек с яйцом: Жизнь и мнения Александра Проханова» рискуют опознать и одну из самых пронзительных метафор процесса «перестройки», которую в «ЦДЛ» озвучивает главный антагонист и тайный масон Александр Яковлев: «Советский Союз был вырван насильно из земной цивилизации. Советский Союз — это луна, которую мы должны вернуть на землю, в ту впадину, из которой она была вырвана. А это ювелирная работа. Кромки не совпадают. Инструмент несовершенен. Мастера не обучены. Отсюда скрипы, хрусты, страдания людей. Но мы вернем Луну на Землю и обеспечим ей земные условия существования». Данилкин же вспоминает статью Проханова начала 1990 года «Трагедия централизма», где «возникает образ СССР как Луны, вырванной из Земли, которую теперь пытаются вернуть обратно, прикрепить к уже другой, по сути, планете». (Кстати, любопытно, что в другой беседе с Данилкиным Проханов применяет тот же образ и к самому ЦДЛ: «Он был такой маленькой планетой, луной, которая вырвалась из советской земли. На этой луне творились вещи, невозможные для советского строя».)
Дальше — больше: любовный четырехугольник Куравлева, его жены, его любовницы и ее мужа, оказывается ремейком повести «Их дерево» (написанной в 1973-м — как раз примерно когда сам Проханов стал завсегдатаем ЦДЛ). Местами сходство разительное. Молодой перспективный автор, тайные встречи в ЦДЛ, ее муж-офицер, только там она Елена (прототипом которой, кстати, была редактор Проханова в издательстве), а тут Светлана. Да и самые яркие сцены застолий в Дубовом и Пестром залах ЦДЛ с калейдоскопом узнаваемых персонажей при сравнении оказываются слегка видоизмененными 5-й и 6-й главами «Надписи», что несколько озадачивает с учетом того факта, что время действия романов различается на 20 лет (окей, в стране был застой, но неужели настолько?). Хотя уж в Доме литераторов-то явно хватало других, не описанных ранее эпизодов, достойных этого романа. Взять, например, едва не случившуюся в те же примерно годы драку в туалете ЦДЛ, куда Проханов выходил драться с демократом Карякиным, автором главного перестроечного, как сказали бы сейчас, мема «Россия, ты одурела». Спойлер: крови не было. «Кончилось тем, что он сказал: нет, это унизительно — драться в туалете, я пошел. И он вернулся за стол», — вспоминал Проханов. Ну или журнал «Современная литература» (тогда его называли «СоЛи»), который он примерно в эти же годы реформировал настолько, что он, как замечает Данилкин, «производит впечатление, в смысле формы и интонации, не столько перестроечного, сколько авангардного журнала». Однако вместо погружения в эти интригующие и пока ни разу не рассказанные события, читатель на всем протяжении романа вынужден бороться с дежавю, которое неизбежно вызывают слишком уж знакомые декорации.
Тут, конечно же, требуется пояснение: вообще говоря, в художественной вселенной Проханова, начиная примерно со времени действия «ЦДЛ», а уж особенно с середины 1990-х, это скорее норма: сцены, образы, метафоры и сами герои часто мигрируют из книги в книгу, не претерпевая даже особенных изменений. Это, безусловно, осознанная и принципиальная особенность его стиля и видения: последнюю четверть века Проханов, по большому счету, создает один грандиозный метароман, не без оснований видя себя главным, если не единственным оставшимся летописцем затопления советского ковчега и последующего крестного пути России. Слово «летописец» тут не лишнее, поскольку в плане сюжетной повторяемости и репетитивности нарратива (когда каждое сравнение, к примеру, воплощается в нескольких итерациях: например, если мы видим, как один писатель за столом цдловского Дубового зала плотоядно разделывает румяного карпа, то можно с уверенностью сказать, что несколькими строчками ниже другой будет наслаждаться котлетой по-киевски, третий — вырезкой et cetera) прозу Проханова стоит сравнивать скорее с произведениями церковной традиции. Сходство ликов, цветовой гаммы и решений библейских сцен на иконах, конечно же, не порок, и называть его романы однообразными столь же поверхностно, сколь пенять, скажем, Рублеву на двумерность его апостолов. Корпус текстов Проханова своего рода канон, или даже фрактал канонов; некий сад сходящихся тропок, вьющихся среди то восхитительных цветов, то источающих миазмы болот и всегда ведущих к единому центру, воронке, куда тщится не провалиться Россия. Однако когда каждый поворот очередной тропки оказывается до такой степени знакомым, путешествие рискует вызвать если не скуку, то как минимум упомянутое озадачивающее дежавю.
Зададимся теперь вопросом: делает ли роман «ЦДЛ» это постоянное узнавание уже где-то читанного недостаточно значимым для знакомства с ним? Пожалуй, все же нет. Даже давние поклонники и знатоки Проханова, прочитавшие не один десяток тысяч страниц его психоделической прозы, обнаружат среди досадно знакомых сцен немало любопытных открытий касательно деталей биографии автора: например, конфликт Куравлева со взрослеющими сыновьями, которых все сильнее манят носящиеся в воздухе либеральные идеи. Или поездка героя накануне демарша ГКЧП в компании его ключевых участников во главе с Баклановым на Новую Землю (реально состоявшаяся у Проханова в 1989-м), где в «самой северной бане в Советском Союзе» шлифуется финальный план путча. Но главное — на месте и в полной боевой готовности уникальная прохановская оптика и галлюцинаторная манера письма, рефлективная голографическая проекция на скорбную позднесоветскую реальность, иллюминирующая и фасцинирующая ее. То, что Данилкин называл «луч из третьего глаза», а писатель Личутин — «нечеловеческое зрение», вот только в в «ЦДЛ» эта оптика не привычно босховская, а скорее брейгелевская: не любование отталкивающими и жуткими деталями, а окидывание взглядом бурлящего пейзажа распада. Стоит, кстати, вспомнить, что в нулевые Проханова выпускали сперва Ad Marginem (притом в рамках серии «Трэш-коллекция»), а потом кормильцевская «Ультра.Культура», то есть издательства, претендующие на нетривиальное осмысление мира. За что они полюбили его? А примерно за такие вот нокауты, которых в «ЦДЛ», по счастью, хватает: «А вы не знаете, как Евтушенко, Рождественский и Вознесенский добились успеха? Три немолодые активные женщины по сговору женили на себе перспективных молодых поэтов. Сделали им литературную судьбу. Заказывали и писали рецензии, знакомили с влиятельными особами у „Аэропорта”. Они, эти умные бабы, раскрутили мальцов, те стали собирать стадионы, а их жены купались в славе и деньгах мужей».
Кажется, никто еще не употребил в прохановском контексте термин «социалистический сюрреализм» — что ж, рано или поздно это следует сделать! Первая же страница предлагает читателю пить цдловский кофе маленькими глотками, «дожидаясь, когда появятся галлюцинации»: Горький, Бабель, Симонов и Фадеев. «Все они выплывали из дубовых волокон, кружили под потолком вокруг туманной люстры и вновь погружались в стены». Образы все так же макабрически точны: вот, скажем, Елена Боннер — «Она не расставалась с сигаретой. Дым шел изо рта, из ноздрей, из волос, из карманов жакета. В ней что-то тлело». У Горбачева после встречи с Рейганом в Рейкьявике по телевизору «страшное лицо, словно к нему приложили раскаленный шкворень. Между ним и Рейганом состоялось что-то ужасное, непостижимое, что изуродовало миловидное лицо Горбачева, превратило в посмертную маску». (Именно этот кадр станет для Проханова лучшей метафорой пресловутого «социализма с человеческим лицом», о котором писал идеолог перестройки Яковлев.) А вот и Ельцин на танке возле Белого дома: «Рыкающий голос, похожий на грохот танкового двигателя, полетел над толпой. Куравлеву казалось, что тулово Ельцина переходит в танковую броню, в гусеницы, а сам он, с ходящими желваками, набыченной головой, бурно дышащими ноздрями, является кентавром. Сиплым рыком он запустит двигатель и, грохоча гусеницами, двинет через Москву, круша и ломая». (Потом, во время трансляции позорной пресс-конференции ГКЧП, Куравлеву привидится, будто путчисты уже раздавлены гусеницами ельцинского танка.)
Кому-то все это кажется тенденциозной графоманией, но невозможно не признать, что оптика, изначально выбранная Прохановым в качестве художественного приема, по прошествии ровно полувека его литературного пути (да, в этом году!) оказалась панацеей от времени. Именно его толстые фолианты, которые с середины 1980-х нещадно шельмуются любыми критиками, по итогу остались единственной художественной летописью постсоветской метаморфозы России. Действительно, назовите мне роман, где детальнее, точней и ярче всего описана трагедия расстрела парламента в 1993 году? «Красно-коричневый». А можно книжку, документирующую обстоятельства передачи власти преемнику в 1999-м? «Господин Гексоген». Ну хорошо, а что-нибудь про начало афганской войны и захват резиденции Амина в Кабуле? Да, пожалуйста: «Дворец». Вот вам и графомания, вот вам и тенденциозность.
А еще отдельное удовольствие в «ЦДЛ» — разгадывать разбросанные по тексту ребусы-псевдонимы. Понятно, Лишустин (автор романа «Бафомет из Малиновки») — процитированный выше Личутин; критикесса Наталья Петрова, конечно, Наталья Иванова, впервые назвавшая Проханова «соловьем Генштаба» и, что гораздо интереснее, судя по всему, именно в его отношении выковавшая популярный ныне термин «нерукопожатный»! Франк Дейч тоже не требует объяснений. А вот кто такой Фадей Гуськов, «почитавший себя последним русским романтиком, считавший вершиной русской словесности „Петербург” Андрея Белого»? Или мудрец из аэропортовской квартиры Андрей Моисеевич Радковский («Разрушение Вавилонской башни — это библейский миф. Башню достроили, на ее вершине сделали молельню и славили космические силы. Не летал ли Гагарин к вершине Вавилонской башни?»)? Или Макавин, перехвативший лавры у Куравлева? Вы думаете, Маканин — а вот мне кажется, что Генрих Боровик. И так далее.
Но, конечно, самая главная загадка — для чего Проханов вообще этот роман писал? Зачем эта метакнига, рекомпиляция уже сказанного и отрефлексированного? Версия оптимиста: перед нами просто масштабный приквел к выходу на следующую орбиту, к новому циклу книг, возможно, наконец-то эпосу не о пепле поражения, а о восходящих на руинах ростках сопротивления. Первым из которых стала газета «День», о явлении которой нам уже обещан следующий роман, (хроно)логическое продолжение «ЦДЛ». Это тем более интересно, что росток-то взошел: «День» впервые для автора может оказаться сюжетом о проекте, который не погиб, но оказался жизнеспособным и исторически успешным! Мы наконец дожили до эпохи, когда идеи передовиц «Завтра», то ли случайно подслушанные, то ли внимательно прочитанные властью, постепенно превращаются в масштабные нацпроекты. И если смотреть на ситуацию в ракурсе прохановского служения России, то видно, что пресловутая симфония искусства и политики, которую истовый неоплатоник Проханов искал со времени действия «ЦДЛ», наконец-то начинает звучать — и порой даже оглушительно. И несмотря на все вопросы, замечания и претензии, трудно найти более удачную кандидатуру на летописца этого удачного исторического момента.