Солнце светит только днем
Четыре поэтические новинки: выбор Льва Оборина
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Дарья Суховей. Со временем: 107 шестистиший 2018–2024 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2025
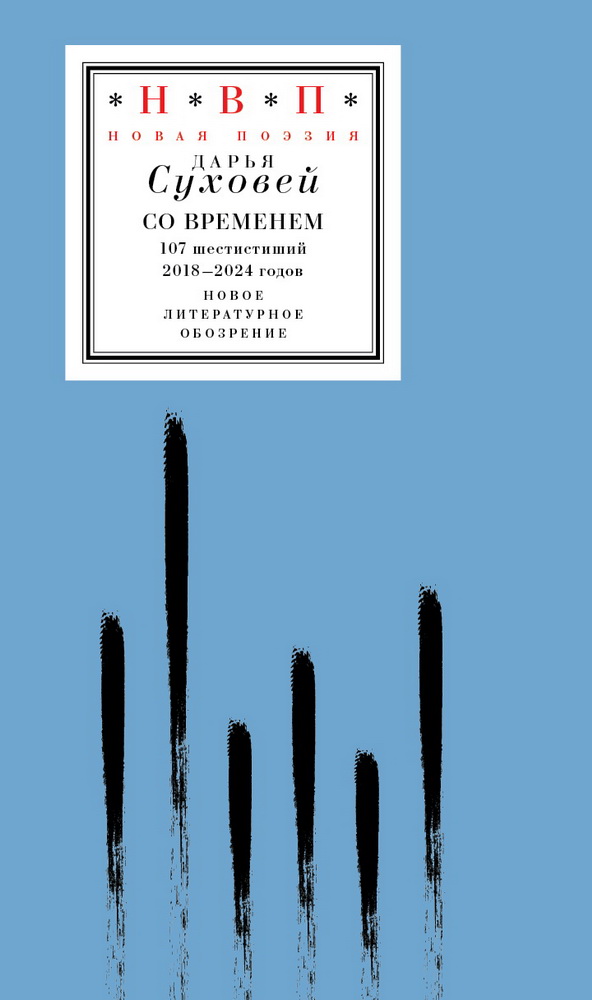
«С 23 октября 2015 года работает в жанре шестистишия», — говорит о Дарье Суховей аннотация к ее книге. Такая хронологическая точность отвечает установкам жанра, который Суховей уже почти десять лет разрабатывает: в финале каждого текста — дата и порядковый номер — например, «11мая23 (2239)». Сразу возникает соблазн счесть, что суховеевское шестистишие — жанр дневниковый; в каком-то смысле это действительно так, потому что нередко стихотворение явственно вырастает из какого-то случайного наблюдения или брошенной шутки — и по нему, как по фотоснимку, можно запомнить день. Рассуждая об этой дневниковости, Александр Житенев в предисловии отмечает: «специфический модус лирического в этой книге — ритуально-бытовой». Еще одна ритуально-бытовая вещь, родственная дневнику, — календарь, и этим объясняется погодовое устройство сборника: один год — один раздел; у каждого раздела — свое название, видимо, год характеризующее. Например, 2024-й — «Тайм-менеджмент», а 2022-й — «Безвременье».
С другой стороны, в этом точном протоколировании есть что-то пародийное: дата придает тексту серьезности, хотя сам текст, как правило, игровой. Суховей активно обращается к словотворчеству, преобразованию частей речи, каламбуру: «даже птичит и собачит / тех кто хочет очень-очень», «и с каждым днем все флаже», или:
утровень воды в реке
ниже вечервня
это странно для меня
вдалеке плотина гэс
солнце светит только днем
значит ночью выпил лес
Тут много модусов остроумия: «отпрыгиватель / отпрыгивает / от подпрыгивателя / который / все подпрыгивает / да подпрыгивает» — смешно, потому что может читаться как сцена из жизни живых существ, приборов, абстрактных сущностей; «у / ж / и / о / с / а» — потому что это не только два разъятых на буквы животных, героев стихотворения Ренаты Мухи «Ужаленный уж», но и, как поясняет Суховей, «самый короткий из возможных текст — 6 не сочетающихся между собой однобуквенных значимых слов русского языка, 6 знаков». Краткость формы позволяет создавать репризы — допустим, что в литературном смысле это слово сочетает в себе свои музыкальное и театральное значение: короткие номера, работающие на формальном повторе, но при этом достаточно вариативные. Один из разделов неслучайно назван «Кинохроника»: тут действительно есть кадры, микросцены. Много про животных, про мелочи, про ерунду, про подмеченные движения, из которых можно извлечь вещество игры.
Хочется сказать, что многое здесь берется из конкретизма: из Всеволода Некрасова, который назван в одном из стихотворений, и из Генриха Сапгира, к которому отсылает один из приемов — использование усеченных слов. Есть здесь и приговский квазипримитивизм: «любовь к чему-то непонятному / попроще чем любовь к понятному / с понятным просто помнить/знать / а с непонятным недоумевать». Но на самом деле это постнаправленческая поэзия. Поэтому она так свободно говорит о прошлом:
чтоб позвонить что всё в порядке
мы час стояли возле будки
узка малинная тропинка
сладка крапивная ничьинка
сереет как пятнадцать копеек солнце
единственное на всё садоводство
Перед нами воспоминание из детства — такие эпизоды часто возникают в стихах мужа Дарьи Суховей, Алексея Кияницы, — но, в отличие от его стихов, у Суховей ностальгическая нота почти незаметна, проявляется совсем крошечным уколом. Ее можно не подчеркнуть, а напротив, остранить неожиданным сравнением — или не очень серьезной, но все же рационализацией: «дрызг брызг от того что падает твердое / физическое тело и собой выталкивает / жидкость под воздействием силы тяжести / и прочих малоизвестных в детстве мира причин // а это всего-то мы кида- / ем камешки на середину пруда». Усиление личного аффекта в этих стихах — редкость, но тем сильнее оно ощущается:
я разочарование и боль
как капли в нос всегда ношу с собой
и все равно жара или мороз
с собой всегда ношу я капли в нос
а зеркальца с собой я не ношу
чтобы не видеть как я не дышу
И это, пожалуй, самое любопытное: игра, но с серьезным лицом. Иногда даже с трагическим.
Петя Птах. День без наркотиков. Тель-Авив: Издательство книжного магазина «Бабель», 2025
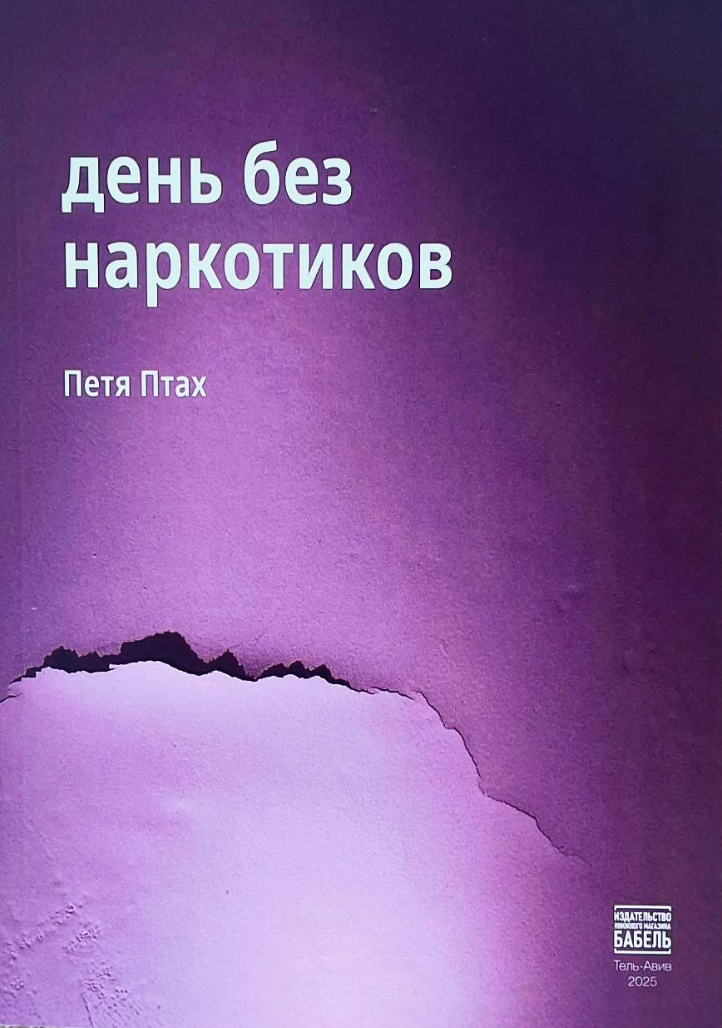
Живущий в Израиле поэт Петя Птах — продолжатель «новоэпической» традиции фрагментарного нарратива, отчетливее всего манифестированной в поэзии Арсения Ровинского и Леонида Шваба. Стихи из этой книги позволяют показать пальцем на довольно тонкую грань между эмоциональными регистрами «нового эпоса»: условно говоря, благостным и тревожным: наступает момент, когда тревога (хочется употребить здесь английское слово discontent) начинает сочиться из-под благостности все заметнее и это уже не скрыть. В стихах Птаха, жившего в Индии, — много о яркой радости всего окружающего («смотри как бежит / не касаясь вульгарных текстур / к пятилетнему жениху / молодая возлюбленная // как чудесно блестят / опрокинутые в пустополье дольмены / что не ведают ни пробуждения / ни дарующего забвение / сна»), много о буддийских и индуистских духовных практиках. Они могут быть упомянуты посреди сюрреалистического стихотворения о лечении папы или сценки, в которой полиция ловит наркомана.
Но постепенно становится ясно, что сценки счастья — быстротечны: «было громко и весело / а теперь? / а теперь нет». Духовные же практики совершаются в мире, который их не уважает и не учитывает. Вот совсем уж наглядная цитата:
зубра сегодня мы не увидим
та же история с лошадью Пржевальского
(все считают я конченая)
ни тапира, ни ягуара —
ушли на свободу
в естественную, так сказать, среду обитания
только ты все стоишь у меня поперек медитации
ну, стреляй же!
Discontent можно перевести и как «недовольство», и отголоски некоего просветленного недовольства тут постоянно встречаются. Когда к человеку, которому встали поперек медитации, пристают, понятно его желание сообщить, например, следующее поучение «релевантного бога»: «куннилингус под пассакалию // есть наивысшее достижение / вашей цивилизации»; когда реке обрыдли окружающие люди, она запросто может отвергнуть жертвоприношение. Все это слегка напоминает истории о дзэнских наставниках, бивших учеников палкой независимо от данного ответа. Но такой грубый выход в реальность через голову разных красивостей — как раз вариант того самого отказа от наркотиков (то есть от иллюзий), заявленный в заглавии. «Опыт трезвения», как пишет в предисловии к сборнику Дмитрий Дейч. Такой опыт действительно часто включает действие от противного: вместо инфантильного восторга — инфантильная жестокость, вместо благословения — проклятие, вместо радости — предчувствие постапокалиптического мира, где бреют ноги ржавым топором и «купаются позавчерашним плевком» (тут хочется вспомнить наши недавние соображения о предсказательной силе «нового эпоса» на примере стихов Федора Сваровского). Но и наоборот: разбитый фотоаппарат срастается, убитая собака оживает.
И тот и другой экстремум кажется, в зависимости от ситуации, обоснованным: поэзия Птаха — это поэзия антиномий. Они в конце концов становятся интересны сами по себе, как внутренний ритм книги. Предельный контраст может возникать на пространстве двух строк («сейчас я сдеру с тебя шкуру / очень приятно»), но есть тут и контраст более сложный и отложенный. Стихи внутри сборника перекликаются, подчеркивая это внутреннее ритмическое колебание: так, трагическому стихотворению, в котором «из концлагеря / кто-то звонит в полицию / приезжайте немедленно / тут концлагерь», а полиция пытается сообразить, может ли она тут чем-то помочь, соответствует стихотворение с таким же зачином, но заканчивающееся гораздо более реалистическим ответом: «что, Михалыч, / опять на.…лся? / щас в натуре / приедем».
Собственно, обсценизмы и сленг здесь играют важную роль — опять же: тормозят, снижают, возвращают в реальность. При этом сюрреалистические ситуации, диалоги, и обрывки нарратива могут читаться по-разному: буквально, как череда ярких иллюстраций с утраченным референтом, или иносказательно, как высказывания о войне и мире — и парадоксальным образом иносказательное прочтение ближе к непосредственному читательскому восприятию сегодняшнего дня, уже приученному искать смысл между строк.
говори ей уверенно: есть
бесконечный корабль
его мачту растит
параллельная звездам земля
не природа, а день
есть леса
где усталый медведь говорит:
есть контакт!
одобряю расстрел христиан!
и блаженная доля опять
где банан и банан
Михаил Сухотин. Неправильные стихи. Ozolnieki: Literature Without Borders, 2025
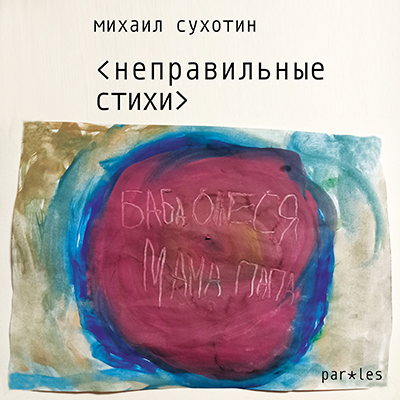
Предыдущая книга поэзии Михаила Сухотина выходила почти четверть века назад. Она называлась «Центоны и маргиналии» — и название обращало внимание сразу на две принципиальных черты поэтики Сухотина: цитатность и особый прием, при котором стихотворение может делиться на несколько параллельных частей, с примечанием (маргиналией), в каком порядке их читать — текст становится похожим на разнонаправленный алгоритм или на поэтическую партитуру в духе Елизаветы Мнацакановой. Другая разновидность примечания — традиционное пояснение. Обе этих особенности сохранились в новом сборнике. Примечания, маргиналии, отделенные фрагменты текста здесь выступают в разных функциях. Где-то это эмблематическая игра: под стихотворением «вода / в чистом виде // чистой воды / иллюзия» стоит «яблоня на берегу», причем зеркально перевернутое и набранное другим цветом (нестандартных графических ходов в книге вообще много). Где-то примечание становится пуантом, без которого дешифровка текста была бы крайне затруднительной. Например:
то-то что хорошо —
Он и улыбнулся
и ты глянь на окиян
как он совершенно абсолютно один
именно что без китов тебе, одеколона...
Примечание: «и увидел Б-г „что хорошо“: ( כי תוב — „ки тов“ (ивр.), ὅτι καλόν — „оти калон“ (греч.))». В другом тексте сопение спящих кошек («блажачье кошенство») передано как «ахтентахтех» и «нехененехентех» — что, как сообщает примечание, означает по-нидерландски «88» и «99» (в контексте предыдущего примечания сразу хочется подобрать этим числам значения по гематрии). Итак, на первый взгляд абсурдный элемент текста работает как цитата — в широком значении слова.
Именно так, широко, и стоит понимать цитатность у Сухотина. Если оставить в стороне многочисленные отсылки к Библии, служащие, скажем так, для торжественного переживания мира, то чужое/общее слово, становясь в текст, может сразу маркировать этическое отношение автора к его первоисточнику. Так, кстати, работает цитата у учителя Сухотина — Всеволода Некрасова: в книге он несколько раз цитируется:
с и по
они работают до упора
бомбят роддома́
чтоб до́ма запоиметь
от занавеси до дивана
от Некрасова до Рубинштейна
это всё
как у людей
от и до
«Военных» текстов здесь несколько — в разделах «Стихи после 2014 года» и «Стихи после 2022 года». Как и выдающиеся «Стихи о первой чеченской кампании», написанные в совсем другом, объективистском, не-фрагментарном ключе, эти тексты в высшей степени этически заряжены, обращены, при всей непрозрачности метода, к потенциально очень большой аудитории — как к той, которая этих стихов никогда не прочтет, так и к той, которая прочесть может, но не всегда готова рефлексировать то, о чем в них написано. «а вы как думали — // провильнуть / проскользнуть / проскочить / просочиться // меж параллельных прямых / при параллельности вам очевидного?» — из стихов о сбитом малайзийском «Боинге». В других текстах эта критика политического этоса перетекает в критику этоса культурного, критику производства и потребления «культурного продукта» как ни в чем не бывало. Большинство деятелей культуры могло бы применить эту критику к себе.
И здесь перед нами встает некая шкала, на которой расположены объекты критики — не названные напрямую, но скорее обрисованные типичными цитатами. В новое качество переходит еще одна особенность, воспринятая от Некрасова: поэтика едких ремарок в отношении коллег — когда-то по неподцензурной литературе, теперь — по «культурной среде» разной степени софистицированности. Степень едкости не всегда понятна. «к сожалению в Колином поколении Кенжеевым обнаружена классика» — какой градус убийственной иронии тут должен вычитываться? Тут чувствуется присутствие некоей системы отношений, восстановить которую — может быть, даже не на уровне проговаривания — могут только вовлеченные лица, литературные сверстники. Так ли нужно посвящать в нее читателя, вопрос открытый. (С другой стороны, знаем же мы, кто как к кому относился в кругу Пушкина или Москвы 1920-х.) Эта едкость — заметная часть эмоционального состава сухотинской поэтики. Есть, конечно, и другие: в том же стихотворении памяти Михаила Файнермана изначально взята элегическая, задушевная интонация — может быть, в соответствии с отмеченной Борисом Колымагиным «сверхзадачей» поэзии Файнермана, «смягчением людских нравов». Соприкосновение с памятью дорогого человека, с дорогими стихами, даже с дорогой манерой разговора (например, ахметьевской) порождает в поэзии Сухотина совсем не резкую интонацию: «последняя прямота» переходит в «последнюю растерянность», и становится видно, что это, в общем, одно и то же:
…в месте
где каждый считает его своим
замьютюсь заблюрюсь зажмурюсь
на углу
на ветру
улети меня на луну
маугли
Леонид Костюков. Уважаемые пассажиры. М.: Делаландия, 2025
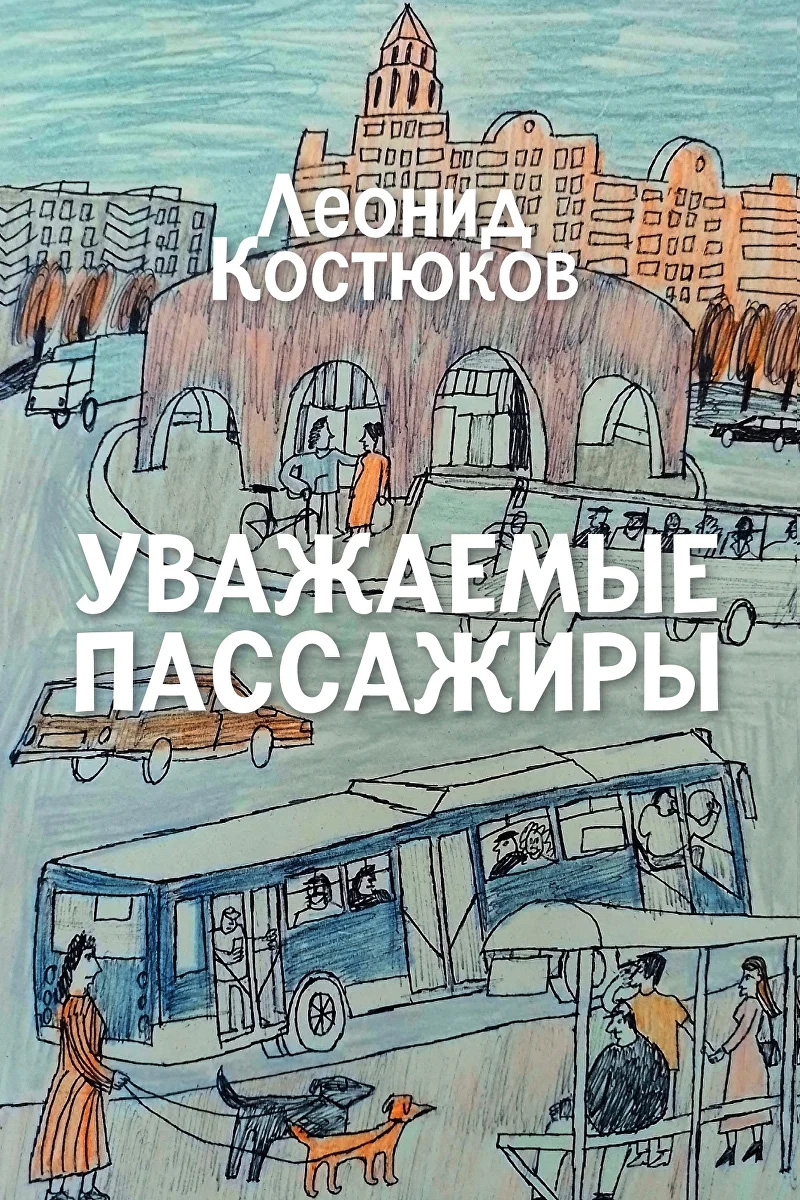
«Эта книга стихотворений не дарится автором», — заявлено в предисловии; то есть автор не хочет никого ни к чему обязывать таким жестом, который в рамках литературных отношений действительно обычно воспринимается как приглашение о книге высказаться. На одной книге Германа Лукомникова значилось «Автор не делает дарственных надписей», а вот такого мы еще не встречали. Впрочем, нам эту книгу Леонид Костюков не дарил, так что никакими неловкими обязательствами мы не связаны.
Важнейший поэт для Костюкова — Георгий Иванов. В некоторых текстах сборника Костюков следует в его интонационном фарватере:
Стоит сосна в анабиозе,
сосна умеет замерзать.
Стоит она в нелепой позе,
и о сосне об этой в прозе
пожалуй, нечего сказать.
То есть — такая нарочитая простота, за которой стоят десятилетия формальной выучки. Выучка никуда не делась, хоть последняя часть сборника и демонстрирует явную от нее усталость. Ее можно применить в пародийных целях — например, отсылая к Бродскому или «Энеиде» Котляревского. Можно выдерживать непростую крупную форму: поэма «Перепись населения», написанная разностопным анапестом, занимает в сборнике центральное место. Но в конечном счете внятность дороже изощрения. Об этой псевдопростоте много знает Сергей Гандлевский, много знал Денис Новиков. Ее умели добиться и лучшие из официальных советских поэтов фронтового поколения — Твардовский, Исаковский. Ясно, что к этой части русской поэзии Костюков относится скептически: так, в одной из частей «Переписи населения» Симонов и Сурков противопоставлены Пастернаку. Но в то же время в книге есть ремейк стихотворения «Летят перелетные птицы», в котором говорящий обдумывает идею эмиграции.
Как эта внятность достигается? Тут характерны повтор, разговорность, отрешенно-усталая интонация, которую оживляет ностальгия (даже по таким явлениям, как Черкизовский рынок 90-х — то есть ностальгия несколько ироническая). «Традиционность» этих стихов — их плюс: они делаются испытанными средствами в ситуации ментального постапокалипсиса, когда выбор формы, в общем, ничего уже не означает, и неважно, что привидится Кассандре. «Постэсхатология пишется слитно, / страшный суд переводят в режим услуг, / но небесных воинств пока не видно, / а земные зычно гудят вокруг, / постарайся их не заметить, друг».
Любопытный получился бы диалог о «незамечании» с тем же Сухотиным — но вот слово «друг», поставленное в уязвимо-рифменную позицию, здесь совсем не случайно. Это слово — не совсем про дружбу. Оно работает как фатическое обращение — для установления контакта, и его словарное значение подсвечивает его амбивалентность. С кем, например, — с каким случайным встречным — разговаривает старый гопник в стихотворении «Эй, парень, скажи, где у вас война?» Поначалу кажется, что с Христом, а больше похоже, что с ангелом смерти Азраилом: «Он был красив, но не по-людски, / он был как курсив посреди строки, / и плитка под ним шаталась, / и многие раньше встречали его, / в глаза пустые смотрели его, / но мало в живых осталось». И разговор, повторим, вполне дружеский — но как вскрыть его убийственный морок, с которым заставляет согласиться стихотворная размеренность?
Есть один выход, один сдвиг — сам Костюков называет его «ходом конем», по макабрической аналогии с известной сценой из «Крестного отца» Пьюзо/Копполы. Нужно сломать просодию, изменить интонацию. Не потеряв внятности, начать говорить почти раешником, почти народным стихом, почти стихом рэперским или блюзовым. И оставить место для своего наблюдательного пункта как раз внутри этого «почти». Иногда этот застекленный наблюдательный пункт виден читателю («Мое настоящее детство — это детство моих детей — / с кока-колой, пепси-колой и красой голливудских смертей, / а настоящая смерть не прошла кастинг, потому что скучна / и не киногенична она»). А иногда он заслоняется абсурдистской сценографией, в которой начинают жить своей жизнью персонажи:
И вот получил Кузьмич
опытный образец,
а как получил Кузьмич
опытный образец,
знал это только Кузьмич
и отчасти опытный образец.
Раз встало солнце с другой стороны,
два встало солнце с другой стороны,
три встало солнце с другой стороны,
Пора что-то предпринять
или рассосется?
Решили предпринять,
да не решили что —
Оно и рассосалось,
как вода в решето.
Эти персонажные вещи у Костюкова — более или менее удачны, но стихотворение про Кузьмича с его опытным образцом стоит наособицу. Тут не скажешь что-нибудь вроде «Мы все Кузьмич», эти стихи не рассчитаны на то, что читатель будет себя с персонажем ассоциировать. Равно не служат они и горьким антропологическим комментарием, как у Игоря Холина (и как бывало иногда у позднего Иванова). Кузьмич — это тот самый «друг», случайно встреченный и необязательно тебе до этого знакомый. Более того, это тот самый Другой с большой буквы. Это еще один житель постапокалиптического нового эпоса. Случайная история может в нем что-то значить, а может не значить ничего.
Но чаще всего она что-то значит — и тогда возникает повод для обобщения. Конец света наступил, мы заметили, а потом открыли глаза и поняли, что время не исчезло.
Некоторые из нас умрут от учебной тревоги,
от повышенного напряжения в каждом фонарном столбе —
просто перестанут переставлять ноги,
не найдя для этого ресурса в себе.
Но это мы говорим о том, чего пока нет.
Фонарь излучает немигающий мягкий свет,
едва заметно дрожит на ветру стекло,
И ничего сегодня не произошло.