Смерть Бога против квадратуры Троицы
Рецензия на книгу «Монструозность Христа»
Славой Жижек, Джон Милбанк. Монструозность Христа. М.: РИПОЛ классик, 2020. Перевод с английского Дианы Хамис. Содержание
 Оригинальное издание сборника «Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic?» вышло в 2009 году и надолго запомнилось как некая диковинка: как шутили в конце 2010-х — «кроссовер покруче утконоса или „Войны бесконечности” Марвел». Действующие лица: Славой Жижек — не такой уж воинствующий, но атеист, любитель анекдотов и синематографа; Джон Милбанк — англиканский богослов, предводитель движения «радикальной ортодоксии» и теоретик постсекулярности. Постсекулярность в его версии сводится прежде всего к доказательству, будто все модерные и современные мыслители как-то невероятно зависят от теологии и что «все, о чем вы тут размышляете в XXI веке, придумал Дунс Скот еще в XIII».
Оригинальное издание сборника «Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic?» вышло в 2009 году и надолго запомнилось как некая диковинка: как шутили в конце 2010-х — «кроссовер покруче утконоса или „Войны бесконечности” Марвел». Действующие лица: Славой Жижек — не такой уж воинствующий, но атеист, любитель анекдотов и синематографа; Джон Милбанк — англиканский богослов, предводитель движения «радикальной ортодоксии» и теоретик постсекулярности. Постсекулярность в его версии сводится прежде всего к доказательству, будто все модерные и современные мыслители как-то невероятно зависят от теологии и что «все, о чем вы тут размышляете в XXI веке, придумал Дунс Скот еще в XIII».
Книжка выстроена диалектически — Жижек, ответ Милбанка, реакция Жижека. Как верно замечает этот последний, «как и всякий философский диалог, это взаимодействие двух монологов». Конкретную тему диалога назвать сложно, их много: христианство, его истина, Бог и есть смерть, Христос и его смерть, немножко модерна и судеб современности. Инициатором этих «дебатов» выступил американский мыслитель Крестон Дэвис. Во введении он пишет, что речь идет о «возвращении теологического», которое должно противостать «нигилизму капиталистической Империи», и далее: «Монструозность Христа — любовь либо в рамках парадокса, либо в рамках диалектики... может оказаться путем, ведущим за пределы современного народно-абсолютистского правления финансов, зрелища и слежки» (с. 44). В целом если исключить 50–60% текста, написанных левацкой нейросетью на дефолтных настройках, Дэвис обсуждает некоторые тонкости в позициях дискуссантов, но суть оставляет неясной.
К чести Жижека, он подступается к христианству прямо: драма Христа для него выше нефтедолларов или биржевых крахов, да и «возвращение теологического», от которого за версту несет реваншизмом, лобби и попросту ресентиментом, его интересует куда меньше самого теологического. Для автора это не первый опыт рассуждений на богословские — и в частности, христианские темы: до этого были «Хрупкий абсолют» (2000) «Кукла и карлик» (2003), а в 2012-м вышла книга «Страдающий Бог: Инверсии Апокалипсиса», написанная уже по следам диалога с Милбанком в соавторстве с Борисом Гунжевичем.
В «Монструозности Христа» Славой Жижек показывает себя законченным христианским атеистом гегелевского типа. Собственно, из Гегеля взято и само это понятие — «монструозность», обозначающее невозможное чудовищное сочетание в Иисусе божественного и человеческого, бесконечного и конечного. Именно этот парадокс всегда привлекал словенского философа в христианстве: здесь сам Бог разделяется сам с собой, на мгновение от себя отрекается, становится атеистом и мучительно погибает, так с собой и не примирившись: «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?». В классической традиции этот отчаянный вопль привычно трактовался как то, что Богочеловек пережил и человеческое отчаяние — но потом воскрес, и все опять вошло в норму. Как говорится в полицейских сводках, «никто не пострадал».
Жижек требует принять вочеловечение и крестную смерть со всей серьезностью: в движении негативности трансцендентный Бог действительно полностью стал человеком и умер, его больше нет: «Снимается сама божественная субстанция (Бог как вещь-в-себе). Она отрицается (на кресте умирает субстанциональная фигура трансцендентного Бога)» (с. 117). Однако же умирая, Бог все-таки «сохраняется в пресуществленной форме Святого Духа, сообщества верующих, существующих только как виртуальное предположение деятельности конечных индивидов» (с. 117). Остаются люди, заброшенные в этот безнадежно неполный и фрагментированный мир. Собственно, именно из-за собственного атеизма Бога и радикальности Креста Жижек при всех его теологических симпатиях остается атеистом со вполне атеистической этикой направленной на конкретного человека любви. Более того, он универсализирует свою заявку, когда пишет, что «Сам монотеизм предвосхищает атеизм внутри поля религии» (с. 186) и даже слегка пеняет исламу за то, что в нем такая диалектика невозможна.
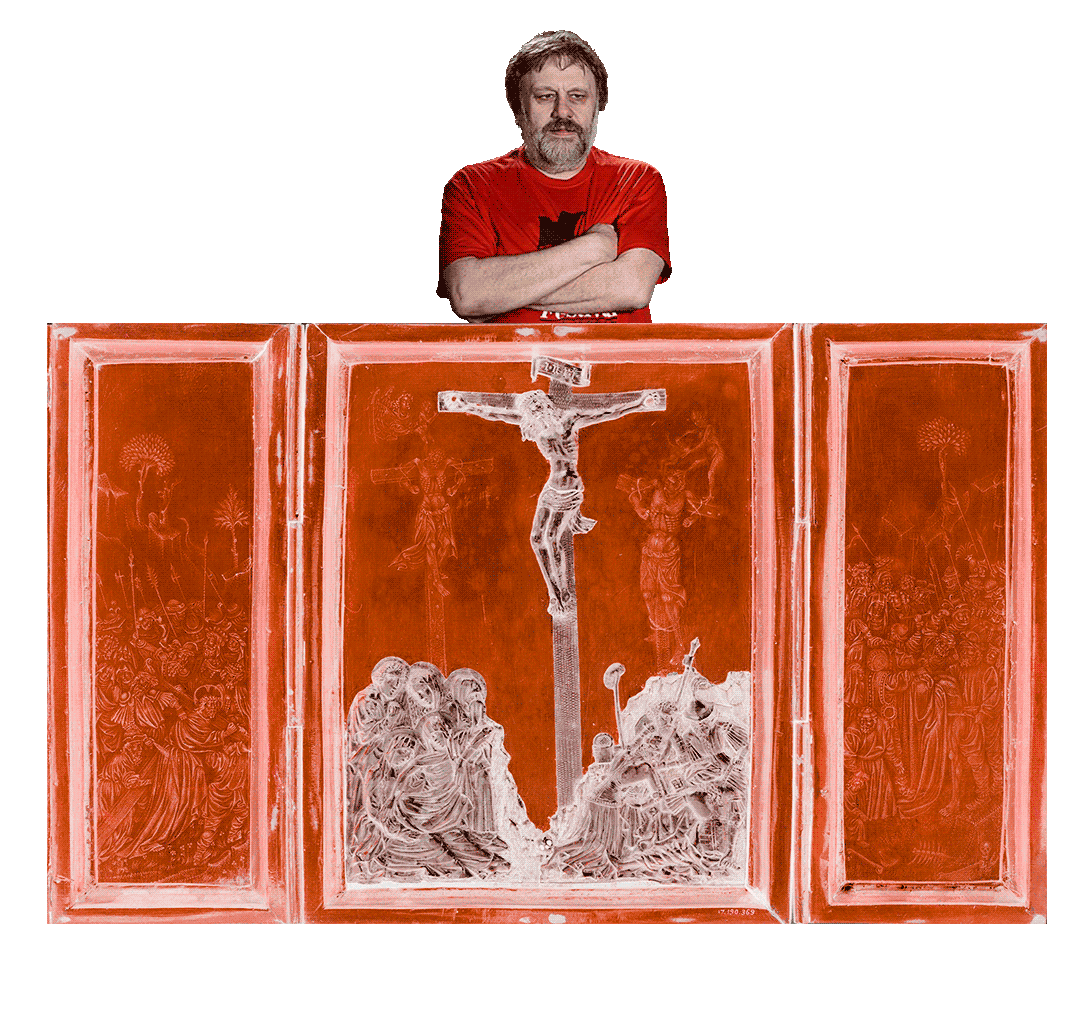 По форме мысль автора — довольно путаная, или, если угодно, ризоматическая: многие линии его размышлений обрываются на полпути, уходят в никуда или кончаются риторическими фантазиями именно там, где хотелось бы «поподробнее»: «Является ли Христос в этот момент дьяволом, становится ли Он жертвой соблазна эгоистического восстания? (...) Но что если мы... рассмотрим самого Бога-Отца, творца, как злого Бога, как тождественного дьяволу?» (с. 500). Как нетрудно догадаться, ни ответа, ни рассмотрения за этим не следует — хотя ранее с помощью Честертона Жижек и обнаруживает в Боге «темную сторону», которая вроде как должна «искупить» самое себя в отрыве от человечества. В другом месте Жижек подходит близко к теологии «слабого» и «страдающего» Бога «после Холокоста». Впрочем, свою идею он опять-таки формулирует в виде риторического вопроса: «Что если ужас, испытываемый Богом как бессильным свидетелем такого события как холокост, в котором рушится мир, является чистейшей формой божественного кенозиса?» (с. 482). Вот уж действительно, «что если»! Видимо, именно так автор и полагает.
По форме мысль автора — довольно путаная, или, если угодно, ризоматическая: многие линии его размышлений обрываются на полпути, уходят в никуда или кончаются риторическими фантазиями именно там, где хотелось бы «поподробнее»: «Является ли Христос в этот момент дьяволом, становится ли Он жертвой соблазна эгоистического восстания? (...) Но что если мы... рассмотрим самого Бога-Отца, творца, как злого Бога, как тождественного дьяволу?» (с. 500). Как нетрудно догадаться, ни ответа, ни рассмотрения за этим не следует — хотя ранее с помощью Честертона Жижек и обнаруживает в Боге «темную сторону», которая вроде как должна «искупить» самое себя в отрыве от человечества. В другом месте Жижек подходит близко к теологии «слабого» и «страдающего» Бога «после Холокоста». Впрочем, свою идею он опять-таки формулирует в виде риторического вопроса: «Что если ужас, испытываемый Богом как бессильным свидетелем такого события как холокост, в котором рушится мир, является чистейшей формой божественного кенозиса?» (с. 482). Вот уж действительно, «что если»! Видимо, именно так автор и полагает.
Здесь ко всей этой — красивой, не спорю, — теории напрашиваются два вопроса. Во-первых, насколько она серьезна и что могут значить для атеиста Жижека слова «Бог», «Христос», «Святой Дух» и все прочее? Что это — реальность, метафора или просто культурно-философские фантазии, которые ему нравятся? Во-вторых, безотносительно серьезности — насколько эта концепция оригинальна?
Ответ на первый вопрос дается лишь в третьей части книги — второй Жижека — и звучит так: «Как тогда нам следует рассматривать эту отсылку к Богу, как мы используем термин? (...) Конечно же, не „буквально” (мы материалисты, Бога нет), но также и не „метафорически” („Бог” не метафора, мистифицирующее выражение человеческих страстей, желаний, идеалов и т. д.) Подобное „метафорическое” прочтение упускает из виду аспект Нечеловеческого как внутреннего („экс-тимного”) в человеке: „Бог” (божественное) является наименованием того, что не является человеческим в человеке, наименованием нечеловеческого основания, поддерживающего бытие-человеком» (с. 432). Ранее он уравнивает концепт экс-тимного с «переходным объектом» у Винникотта: это не совсем реальность и не совсем иллюзия, а мост между ними — иначе говоря, «внешнее расширение человека». Поэтому при всей туманности определения, можно сказать, что Христос — первый Человек, принявший в себя Нечеловеческое, как поднимают грязную муть со дна озера, и уничтоживший его вместе с собой. Выходит, что после смерти Бога мы остаемся только людьми — без основания, разве что живущими в расколотом мире и с дырой где-то внутри, где когда-то покоился дьяволобог (или богодьявол)? Подобная идея кажется странной, не будь она выражена в пьесе Сартра «Дьявол и Господь Бог»: «Ты видишь пустоту над головой: то Бог. Ты видишь щель в двери: то Бог. Ты видишь дыру в земле: то Бог. Бог есть молчание, Бог есть отсутствие. Бог есть одиночество людское». Отсюда понятно, что именно смерть Бога как «одиночества людского» прокладывает путь к сообществу и, как любит писать Докинз, «теплу человеческих рук». Впрочем, как торопится подсказать нам эмпирический опыт, руки у людей обычно холодные.
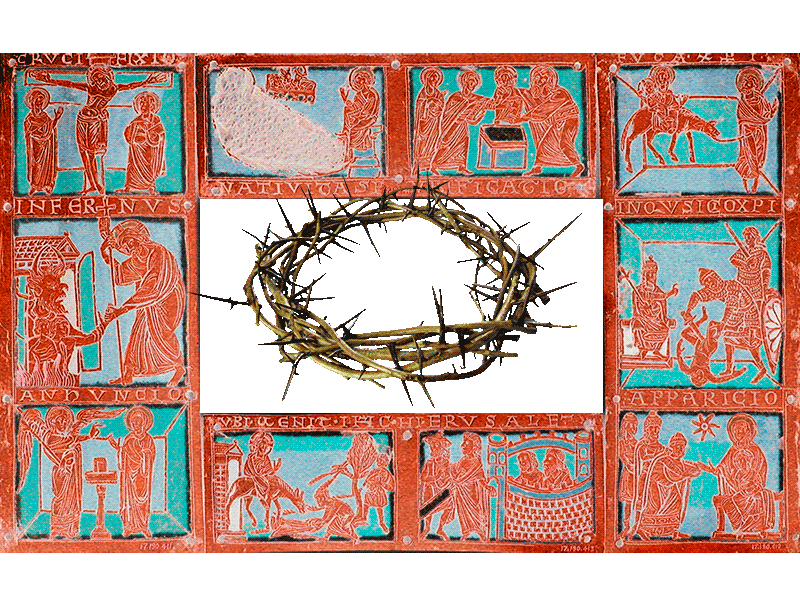 В связи с цитатой Сартра мы подходим ко второму вопросу — об оригинальности, потому что идеи «смерти Бога» с легкой руки Ницше в XX веке настолько всем нравилась, что приближалась к пресловутому червонцу. Начать следует с Томаса Альтицера, которого Жижек вспоминает только на 467-й странице (и то будто бы спохватившись) и немедленно всецело с ним соглашается. В самом деле, его проект «христианского атеизма» подозрительно похож на концепцию Жижека, что называется, «во всем»: здесь и гегельянство, и радикальное вочеловечение, и окончательная смерть на кресте, так что никакого «запасного» трансцендентного Бога не остается, а остается воплотившийся, продолжающий разлагаться в обезбоженном мире в виде человеческой любви. Заявлена у него и соблазнительная для Жижека тема тождества Бога и Дьявола, которые переходят друг в друга после Воплощения, так что Дьявол остается «вонью от разлагающегося господня трупа в пустой трансцендентности». Или — Жорж Батай писал о Боге и мятежнике, о Кресте как о преступлении и зле: «Умерщвление Христа посягнуло на бытие Бога. Все произошло так, как будто творения могут общаться со своим Творцом, только нанося ему раны и разрывая его целостность (...) Ночь смерти, когда Творец и творения вместе истекали кровью, раздирали друг друга и во всех отношениях были поставлены под сомнение — на последнем пределе стыда, — эта ночь оказалась необходимой для их соединения. (...) В распятии на кресте человек достигает вершины зла. Но именно достигнув ее, он перестает быть отделенным от Бога» («О Ницше»).
В связи с цитатой Сартра мы подходим ко второму вопросу — об оригинальности, потому что идеи «смерти Бога» с легкой руки Ницше в XX веке настолько всем нравилась, что приближалась к пресловутому червонцу. Начать следует с Томаса Альтицера, которого Жижек вспоминает только на 467-й странице (и то будто бы спохватившись) и немедленно всецело с ним соглашается. В самом деле, его проект «христианского атеизма» подозрительно похож на концепцию Жижека, что называется, «во всем»: здесь и гегельянство, и радикальное вочеловечение, и окончательная смерть на кресте, так что никакого «запасного» трансцендентного Бога не остается, а остается воплотившийся, продолжающий разлагаться в обезбоженном мире в виде человеческой любви. Заявлена у него и соблазнительная для Жижека тема тождества Бога и Дьявола, которые переходят друг в друга после Воплощения, так что Дьявол остается «вонью от разлагающегося господня трупа в пустой трансцендентности». Или — Жорж Батай писал о Боге и мятежнике, о Кресте как о преступлении и зле: «Умерщвление Христа посягнуло на бытие Бога. Все произошло так, как будто творения могут общаться со своим Творцом, только нанося ему раны и разрывая его целостность (...) Ночь смерти, когда Творец и творения вместе истекали кровью, раздирали друг друга и во всех отношениях были поставлены под сомнение — на последнем пределе стыда, — эта ночь оказалась необходимой для их соединения. (...) В распятии на кресте человек достигает вершины зла. Но именно достигнув ее, он перестает быть отделенным от Бога» («О Ницше»).
Кроме этих двоих близких Жижеку гегельянцев, об этом рассуждали многие: Ваханян, ван Бюрен, Гамильтон и Капуто со стороны «теологии смерти Бога», из других — Фуко, Кристева и прочие постструктуралисты. Воскресение Христа как имевшее смысл исключительно для сообщества близко воззрениям Жирара. Тут возникает и еще один вопрос — насколько это «возвращение теологического» серьезно или хотя бы искренно. Теология становится модной игрушкой, и любой избалованный умник может взять ее и начать вертеть в своих потных руках, вопрошая: а что если? не можем ли мы предположить? — что глубоко чуждо духу классического богословия. К сожалению или к счастью, всегда можно определить, для кого это все серьезно, а для кого — так, баловство. Поэтому думается, что для Ницше, Сартра, Батая или Бонхёффера все всерьез, а вот для Кристевой, а также, при всей любви и уважении, Альтицера и Жижека — скорее фантазии.
На этой ноте стоит перейти ко второму участнику дебатов — Джону Милбанку. Так вот, примерно на пятидесятой странице раздела Милбанка к читателю приходит ясное осознание, что чудовище вовсе не Христос, а сам Милбанк. Объяснение, почему это так, следует начать с анекдота про Карла Барта — основателя неоортодоксии, который в 1920-е годы решительно отверг заигрывания либеральной теологии с библейской наукой и начал развивать мрачное богословие в кьеркегоровском духе — абсолютно запредельный Бог, страдания, безосновность, грех и вообще «вечный суд Бога над человеком». И вот как-то раз он приехал на богословскую конференцию, где некий участник докладывал про новейшую психологию религии. После этого Барт встал и сказал: «Я пришел на богословскую конференцию, чтобы послушать о Боге, а не об этом. Как это связано с Богом?» Докладчик, естественно, сконфузился, да и остальным потом кофе-брейк в горло не лез.
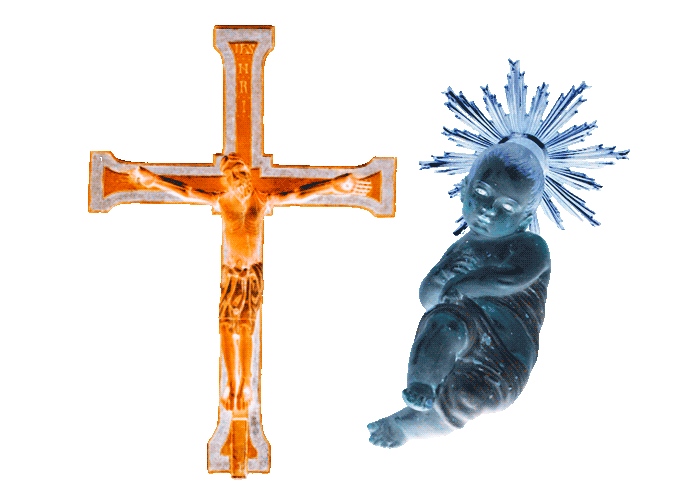 Аналогичную претензию хочется и нужно предъявить Милбанку. На десятках и сотнях страниц он увлеченно расписывает тончайшие и до абсурдности переусложненные философские системы, сыплет, как из рога изобилия, именами, критикует Шеллинга, Канта, Гегеля, Кьеркегора, Хайдеггера, Экхарта, Беме, Якоби, еще десятки людей — но Бога там нет. На странице 230 ошеломленный всем этим читатель, которому не без оснований кажется, что его два часа вращали в стиральной машине на мощном режиме, наконец сталкивается с коротким рассуждением о Троице — однако и это лишь затем, чтобы прояснить «новую структуру опосредования». Милбанк пишет, что Святой Дух — не диалектический посредник между Отцом и Сыном и не «снятие», а третья сторона, связанная с обоими и согласующая божественное бытие. Далее нам говорят: «Отец и Сын — точки только потому, что они стоят на двух концах одной линии, но эта линия является линией только потому, что она основание квадрата, чье остальное пространство — Святой Дух». Как Троица, даже с учетом filioque и догмата о двойном исхождении, стала квадратом — большая тайна.
Аналогичную претензию хочется и нужно предъявить Милбанку. На десятках и сотнях страниц он увлеченно расписывает тончайшие и до абсурдности переусложненные философские системы, сыплет, как из рога изобилия, именами, критикует Шеллинга, Канта, Гегеля, Кьеркегора, Хайдеггера, Экхарта, Беме, Якоби, еще десятки людей — но Бога там нет. На странице 230 ошеломленный всем этим читатель, которому не без оснований кажется, что его два часа вращали в стиральной машине на мощном режиме, наконец сталкивается с коротким рассуждением о Троице — однако и это лишь затем, чтобы прояснить «новую структуру опосредования». Милбанк пишет, что Святой Дух — не диалектический посредник между Отцом и Сыном и не «снятие», а третья сторона, связанная с обоими и согласующая божественное бытие. Далее нам говорят: «Отец и Сын — точки только потому, что они стоят на двух концах одной линии, но эта линия является линией только потому, что она основание квадрата, чье остальное пространство — Святой Дух». Как Троица, даже с учетом filioque и догмата о двойном исхождении, стала квадратом — большая тайна.
По интернету ходит мем, изображающий богослова в виде «МехаМилбанка» — огромного вооруженного до зубов боевого робота, триумфально шествующего по городским руинам. Эта шутка недалека от истины: «англиканская ортодоксия», в которую облачается Милбанк, как раз и выглядит такой броней на грани с театральным костюмом: «я — англиканский теолог», — как бы говорит Милбанк, «я верую в Бога, Троицу, Логос, Христа, Святой Дух, Церковь и еще в analogia entis по Фоме Аквинскому, я всегда играю на своем поле, а остальном буду рушить все ваши жалкие философские измышления, которые заслуживают сострадания». Тут к чудовищному МехаМилбанку подходит человек и робко стучится в дверцу: «Послушай, но ведь не все верят в Бога и Троицу. Но нам интересен Христос, нас искренне волнует природа зла, мы иногда ощущаем, что когда-то где-то было трансцендентное, но теперь его нет. Неужели мы не сможем найти общий язык? Я тоже читал Экхарта и Алена Бадью...» В ответ на это теолог Джон Милбанк лишь улыбается толстощекой улыбкой, полной сочувствия и презрения, и выпускает по нигилистам очередной залп: «феноменологически-онтологический регион диалектического касается некоторых последствий реляционности» (с. 247), Жижек не понимает, ошибается, от него ускользнуло. У Господа — благодать и ликование, в творении — слава от Славы Божьей; нигилисты повержены, я снова победил (ссылка на статью Милбанка с критикой философов X, Y, Z).
К слову, один из известнейших учеников Деррида, теолог Джон Капуто в своей рецензии на эту книгу также отметил, что Милбанк извергает на читателя поток «риторического насилия» и грешит «богословским империализмом» — он бесконечно сыплет именами, понятиями, концепциями тех и других, в чем разобраться совершенно невозможно, и абсолютно походя списывает со счетов любого, кто не согласен с метафизикой Аквината, как умалишенного нигилиста. Нужно сказать, что рецензия эта весьма утешительна в том плане, что Капуто, безусловно, может не только понять фразы типа «имплицитно вставая на сторону хайдеггеровского прочтения Канта против кассировского гуманистического прочтения» (с. 238), но и оценить их как исполненную чудовищной гордыни неудобоваримую буффонаду. В конечном счете мысль самого Фомы Аквинского — предельно объектная, вопросно-ответная, точная и тщательно структурированная. Мысль его последователя — удивительно вязкая, пускающая пыль в глаза, лишенная и объекта, и внятной структуры.
В итоге Жижек прав, считая себя большим христианином, чем Милбанк: он действительно делает Бога и Христа «предметом своих помышлений», старается хотя бы на эстетическом уровне вообразить драму божественной смерти, видит «мертвую глазницу, где набухала ночь, бездонна и темна» (Нерваль) и понимает, что значит «я больше не найду Тебя ни в ком, я с горечью людской наедине, я мог с Тобой ее смягчить вполне, но нет Тебя, о стыд и горе мне!» (Рильке). Милбанк, напротив, только копается в философии и все критикует. Он тоже прав: Жижек действительно «предлагает неортодоксальную версию христианской веры» — не первым и не последним, не первый и не последний раз. Милбанк же, судя по его тексту, ради Христа не отказался бы даже от двойного тоста на завтрак. В остальном остается только поблагодарить переводчицу и издателей за их труд и порадоваться тому, что этот «утконос» явился наконец и в наши края.