«Смело говорите правду — все равно никто не поверит»
Василий Владимирский — о романе Эдуарда Веркина «снарк снарк»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Эдуард Веркин. cнарк снарк. Книга 1: Чагинск. М.: Inspiria. Эксмо, 2022
Эдуард Веркин. cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада. М.: Inspiria. Эксмо, 2022
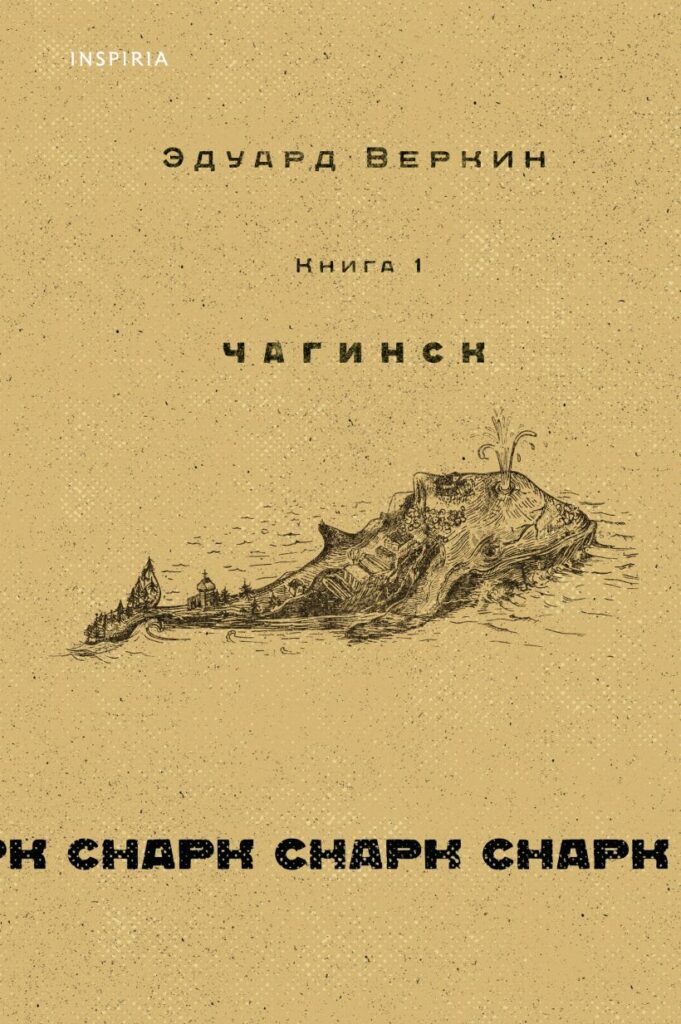 Двухтомный роман Эдуарда Веркина «снарк снарк», изданный летом 2022 года, на двести страниц толще «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса. И, по субъективным ощущениям, устроен немногим проще.
Двухтомный роман Эдуарда Веркина «снарк снарк», изданный летом 2022 года, на двести страниц толще «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса. И, по субъективным ощущениям, устроен немногим проще.
«Снарк» начинается (и продолжается примерно до середины первого тома, то есть где-то до четырехсотой страницы) как производственный роман об освоении бюджета в провинциальном среднерусском Чагинске, раскинувшемся на берегу реки Ингирь. Несостоявшийся писатель Виктор возвращается в город детства, где жила его бабушка, где росли самые близкие его друзья. Несколько лет назад Виктор громко дебютировал романом «Пчелиный хлеб», потом взялся за «книгу про зомби», но на этом как автор художественной прозы сошел с дистанции (напомню, что в библиографии самого Эдуарда Веркина есть роман «Пчелиный волк», а нашумевший «Остров Сахалин» как раз «книга про зомби», так что без перемигиваний с постоянным читателем дело тут не обошлось). Теперь главный герой «снарка» зарабатывает на хлеб с маслом — и иногда с красной икрой, — сочиняя локфик, историко-краеведческую литературу, щедро оплачиваемую из городского или корпоративного бюджета. Разумеется, и заказчики, и исполнители прекрасно понимают, что в здравом уме читать этот самый локфик никто не будет. Зато книгу, изданную «дорого-богато», можно презентовать гостям из столицы, которые потом благополучно забудут ее в гостинице, потеряют в поезде, выгрузят из багажа в аэропорту. И разумеется, выписать солидную сумму на подготовку и производство. Коллизия, что называется, не вымышленная: хотя действие романа Веркина начинается в 2000 году, с тем же успехом Виктор мог кропать свои нетленки в 2010-м или в 2020-м. Несколько таких книг, сувениры из разных уголков России, в моей библиотеке есть, готов свидетельствовать: индустрия жива и до сих пор неплохо себя чувствует.
Локфик, над которым прямо сейчас работает Виктор вместе с разбитным фотографом Хазиным — только часть большого комплекса, извините за выражение, мероприятий, в который вовлечена вся городская элита, от мэра до директора краеведческого музея. Но часть ключевая. Задача локфика — улучшить имидж, подчеркнуть уникальность ничем не примечательного городка, создать миф, легенду. Чагинск кровно заинтересован в такой легенде: рядом с городом разворачивается стройка федерального масштаба, корпорация НЭКСТРАН роет котлован под целлюлозно-бумажный комбинат (или под АЭС, как судачат аборигены, или вовсе под космодром, как фантазируют мальчишки). Что бы там ни было, большая стройка сулит большие деньги, а курирует процесс сам глава НЭКСТРАНа Алексей Степанович Светлов, человек умный, интеллигентный, деловой, все понимающий, не обидчивый и не амбициозный — то есть на фоне прочих персонажей романа подозрительно правильный.
В Чагинске Виктору скучно, и он не моргнув глазом мистифицирует местных жителей, километрами гонит гротесковые телеги — в основном о предполагаемом отце-основателе города адмирале Чагине и об истории вообще. Почему Александра Пересвета, героя Куликовской битвы, можно считать покровителем квантовых физиков? «Это общеизвестно... Пересвет — это в сущности свет в превосходной степени, сверхсвет. Лазер, если уж совсем упрощать. А лазер — это плотный поток фотонов, индуцированный квантовым генератором. Поэтому квантовые физики и считают Пересвета своим покровителем». И так — десятки страниц подряд.
Местные жители, впрочем, тоже не остаются в долгу. Недоговаривают, привирают, делятся странными фантазиями и безумными конспирологическими теориями абсолютно все — не только столпы общества, которым юлить положено по амплуа, но и эпизодические персонажи вроде консьержки из провинциальной гостиницы (ей принадлежит сюрреалистический монолог на полторы страницы о том, как можно использовать бобра). Абсурд крепчает: в постели Виктора внезапно обнаруживается металлический клоп; Хазина кусает лесная мышь, но в кому на несколько дней впадает почему-то Виктор; в компанию создателей локфика вливается юный исполнитель казацких танцев Роман, которого Хазин с простодушным антисемитизмом немедленно переименовывает в Шмулю; алкоголь льется рекой. Дэвид Линч с его «Твин Пиксом» нервно курит в коридоре и утирает скупую слезу зависти. Но надо знать Веркина, чтобы понять: никакого бичевания язв общества, отповеди с позиции абсолютного морального превосходства не будет. Он фиксирует провинциальный абсурд без осуждения, без праведного гнева, даже с некоторой симпатией.
По слухам, автор работал над «снарком» несколько лет — и, понятное дело, не ограничился сатирическим очерком провинциальных нравов. Веркин непрерывно поддразнивает читателей: подсознательно ждешь от книги какого-то жанрового поворота, момента, когда накопившийся заряд безумия наконец достигнет критической величины — и как жахнет! И вот этот момент настает: после бесконечной экспозиции наконец начинают происходить события, обещающие перевернуть историю с ног на голову. Пока отцы города и дорогие гости бурными возлияниями отмечают торжественное открытие котлована для строительства непонятно чего, из Чагинска исчезают двое подростков — причем один из них сын подруги детства и первой возлюбленной Виктора. Наспех организованные поиски не дают результата, следы мальчишек теряются, местные власти даже не пытаются убедительно сымитировать энтузиазм: пропали и пропали, и бог с ними, не до этого сейчас.
Тут бы по правилам жанра самое время объявиться болотному чудищу или маньяку-расчленителю, но нет, не жахает — роман так и не превращается ни в детектив, ни в хоррор. Все постепенно сходит на нет: поисковые партии отзывают, милиция умывает руки, стройка замораживается на неопределенный срок, чиновники, еще вчера заискивавшие перед столичными штучками, начинают мягко, но настойчиво выпроваживать главного героя из города. А что Виктор? Немного потыкавшись для очистки совести в закрытые двери, пожимает плечами, собирает пожитки и покорно садится в вагон.
Абсурд и гротеск в первом томе «снарка» лезут изо всех щелей, но это бытовой абсурд и обыденный гротеск. «Я давно пытаюсь понять, — размышляет главный герой, — в какой момент обычная провинциальная история становится неотличима от лютейшего треша? Мне кажется, что с годами эта граница все тоньше и тоньше». Сам Веркин поступает хитрее: он просто отменяет эту границу, объявляет ее несуществующей. Провинциальная история и есть лютейший треш, а треш и есть провинциальная история. Да что там провинциальная, все так живем — хотя некоторые не настолько насыщенно.
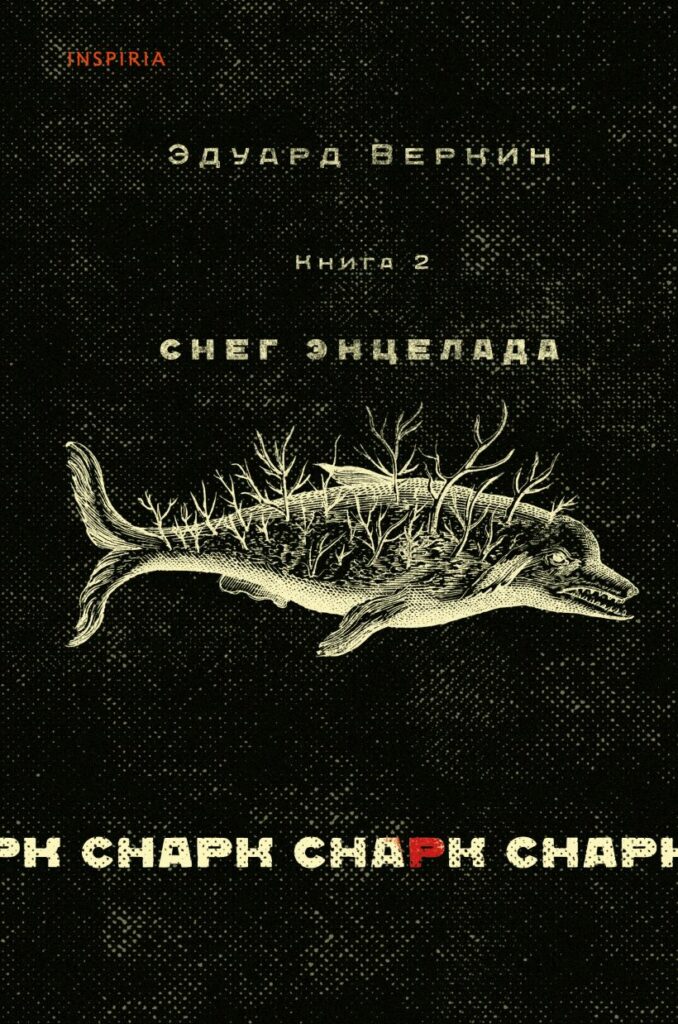 Но это еще не конец двухактной драмы. Действие «Снега Энцелада» разворачивается через восемнадцать лет после тех памятных событий, но это не сиквел, не новая история в старом антураже, а именно вторая часть полноценного романа, развивающая все те же сюжетные линии. Виктор давно отошел от локфика и литературы вообще, он занимается совсем другими делами, проводит конференции на черноморском побережье, практикует ЗОЖ, готовится свалить в Черногорию. Конечно, абсурда хватает и в его новой работе — но это совсем другой абсурд: то детские библиотекарши подерутся на торжественном закрытии конференции, то экскурсантка засунет голову в крымский дольмен и застрянет намертво, то очередной поэт-аниматор возомнит себя гением и убежит покорять Москву. «Все эти конвенции праноедов и съезды пчеловодов изначально несут в себе заметный сюрреалистический компонент, но иногда... Иногда реальность окончательно сдается под человеческим натиском, оседает, и давно будничный Кафка обретает не только дух, но голос и плоть».
Но это еще не конец двухактной драмы. Действие «Снега Энцелада» разворачивается через восемнадцать лет после тех памятных событий, но это не сиквел, не новая история в старом антураже, а именно вторая часть полноценного романа, развивающая все те же сюжетные линии. Виктор давно отошел от локфика и литературы вообще, он занимается совсем другими делами, проводит конференции на черноморском побережье, практикует ЗОЖ, готовится свалить в Черногорию. Конечно, абсурда хватает и в его новой работе — но это совсем другой абсурд: то детские библиотекарши подерутся на торжественном закрытии конференции, то экскурсантка засунет голову в крымский дольмен и застрянет намертво, то очередной поэт-аниматор возомнит себя гением и убежит покорять Москву. «Все эти конвенции праноедов и съезды пчеловодов изначально несут в себе заметный сюрреалистический компонент, но иногда... Иногда реальность окончательно сдается под человеческим натиском, оседает, и давно будничный Кафка обретает не только дух, но голос и плоть».
За новыми заботами Виктор, кажется, и думать забыл о Чагинске — как о дурном сне, тяжелом алкогольном трипе. Но однажды получает от анонимного отправителя посылку из прошлого — бейсболку одного из пропавших мальчишек, вещдок по закрытому делу об исчезновении. С этого момента налаженный бюргерский быт летит ко всем чертям. Очередная «конвенция праноедов» срывается, Виктора ставят на счетчик братки, будто вынырнувшие из «лихих девяностых», начинаются проблемы с ВНЖ и зарубежными счетами. Гомеостатическое мироздание — или некие могущественные, но вполне посюсторонние силы, о природе которых остается только догадываться, — не оставляют ему другого выбора: только вернуться в Чагинск и наконец выяснить, что же на самом деле случилось там, в городе детства, восемнадцать лет назад.
В принципе, главный герой и сам не против. В кои-то веки в нем просыпается настоящий азарт, впервые за много лет Виктору становится интересно жить — тем более что на сей раз он готов встретить абсурд во всеоружии. На «усиливающийся сюрреализм окружающего» он отвечает «купированием мысли и редукцией эмпатии». Если смотреть — то только «Магазин на диване» или самые бессмысленные ютуб-каналы; если читать, то новеллизации компьютерных игр, оружейных энциклопедий и женских форумов; если слушать, то самую примитивную музыку. «Практики когнитивных деприваций вот выбор мастеров», защитная броня от безумия окружающего мира.
Кажется, наконец начинается провинциальный детектив во всей красе — с незаконным проникновением в городской морг, визитом во владения местного барина-лесопромышленника, двумя трагикомическими похоронами подряд, тайным дневником и туманными угрозами измельчавших, но не растерявших наглости чагинских чиновников. Тем более что вслед за Виктором в город стягиваются и другие фигуранты дела: бывший танцор Роман, бывший фотограф, а ныне депутат Хазин, под конец даже Алексей Степанович Светлов, глава НЭКСТРАНа, за десятилетия совсем не изменившийся и не утративший фаустовского обаяния. Фигуры расставлены, подозреваемые на местах, как в трешовом криминальном телесериале, даже не претендующем на правдоподобие.
Но нет: Веркин снова обманывает простодушные ожидания читателей, вывозит сюжет совсем не так и не туда. Вопреки детективному канону, после долгих поисков и вдумчивых размышлений, постояв под дулом пистолета и полежав на надушенных простынях в будуаре не первой свежести красотки, Виктор, сыгравший в этой истории роль сыщика-любителя, так и не называет имя преступника. То есть догадаться, кого он считает виновным в исчезновении мальчишек, не так уж сложно, но далеко не факт, что Виктор прав. Недостоверный рассказчик — фигура, нежно любимая Эдуардом Веркиным и практически обязательная в любом его романе. Даже если этот рассказчик внезапно заявит, что дважды два четыре, а Волга впадает в Каспийское море, веры ему нет. Но это, конечно, не важно: что за страшные тайны скрывают жители Чагинска, кто убийца и было ли преступление вообще — далеко не ключевые вопросы. Главное решение, главный выбор Виктора лежит в другой плоскости и имеет к пропаже подростков только опосредованное отношение.
Ну а теперь попробуем отвлечься от фабулы, и разобраться: что это было, как написан роман и зачем вообще автору понадобился такой запредельный объем. На протяжении полутора тысяч страниц Эдуарда Веркина интонационно мотает от хоррора и детектива до социальной сатиры и бытоописательной прозы, от Лавкрафта до Салтыкова-Щедрина. Но надо понимать, что такая неопределенность не от беспомощности. «Реднек-синдром, — размышляет главный герой „снарка“. — Городским всегда мнится, что местные не такие. Неправильные. Спят с сестрами, варят самогон, поклоняются Дембеле. И при любой возможности готовы вырезать у городского лоха почки и вырвать зоб». Так вот, у Веркина хватает романов, где эта схема реализована почти буквально: и спят, и варят, и уж точно поклоняются. Разве что «городской лох» часто сам оказывается не промах и норовит в ответ вырезать что-нибудь у местных.
Но здесь другой случай. «Снарк» — не эксплуатация популярного жанра, а попытка создать новый, неслыханный, большая амбициозная задача для большого амбициозного писателя. Веркин пишет то, что главный герой романа в одном из своих прогонов не совсем точно называет «русской готикой»: «Русская готика отличается от прочих тем, что события могут иметь как реальные, так и мистические движущие силы... Иногда одновременно». На ту же задачу работает и смешение стилей, многозвучие, не побоюсь этого слова, полифония. В одном из ключевых эпизодов романа этот принцип реализован буквально, с максимальной наглядностью. Провинциальный чиновник бубнит со сцены дежурную речь о грядущем экономическом росте и патриотически ориентированном капитале, на этом фоне течет обычная застольная беседа с легким градусом безумия, в углу зала олигарх-интеллектуал и молодой танцор вполголоса обсуждают онтологическую ценность литературы — и все это одновременно, вперемешку, слоями.
Надо заметить, что Эдуард Веркин отличный стилизатор. В «снарке» есть фрагменты, очень точно выдержанные в манере Владислава Крапивина. «Свернули на Центральную и долго взбирались на холм, затем снова свернули, в одну из тихих светлых и песочных улиц, где росли липы и чувствовалось, что ты забрался выше, чем обычно. Все улицы на холме назывались иначе, не так, как в остальном городе, здесь, само собой, была Липовая, была Тополиная и Прозрачная — из-за ручья и колодцев, — и поперек них Клеверная, и в самом начале Клеверной еще сохранился луг, и на этом лугу всегда паслись козы, и сейчас там тоже была коза». На тот же возвышенно-романтический регистр переключается Виктор, когда гонит свои бесконечные телеги о видных чагинцах — по большей части вымышленных, вроде архитектора Елкина. «Вокруг был горячий июль, воздух и солнце, ветер приносил с косогора вкус клевера и воды; Елкину показалось, что он в море, что он на паруснике, Елкин был поражен бешенной летящей красотой этого места и дал слово построить здесь новый город... Через три года на верхушки чагинской горки появилась улица и дома, похожие на корабли: казалось, что эскадра уходит вдаль, поднимаясь в воздух с крутой гривы острым клином...» То есть очевидно, что Веркин способен строчить такие тексты километрами, но не злоупотребляет этим редким талантом — по крайней мере, на страницах романа «снарк снарк».
Вообще жизнь и судьба пропавших чагинских мальчишек, которая могла бы стать сюжетной основой для недурной подростковой повести, остается на периферии внимания писателя и его главного героя. Рискну предположить, что Эдуард Веркин, трижды лауреат «Заветной мечты», дважды — премии «Книгуру», автор, включенный в почетный список Международного совета по детской книге (IBBY Honor List), не особенно любит детей. В романе 2009 года «Мертвец» его герои ходили поглазеть на собаку, сбитую машиной. В одном из флешбэков в «снарке» друзья детства отправляются топить кота — так, из чисто исследовательского интереса, надо же чем-то занять время летних каникул. И это не какие-то паталогические садисты, а обычные задорные мальчишки с ободранными коленками с улицы то ли Тополиной, то ли Клеверной. (Спойлер: котик уцелел, хотя и пережил тяжелую психологическую травму.) В обеих книгах без этих эпизодов в принципе можно обойтись — так что, видимо, этот повторяющийся паттерн важен для характеристики подростков, какими их видит автор. Веркин с легкостью имитирует «крапивинский стиль», но детство как последний островок чего-то ясного, чистого и светлого — определенно не его идея-фикс.
Ну и еще одна принципиально важная черта романа «снарк снарк», которую нельзя не отметить, — самоирония, саморазоблачение, бесстыдное обнажение приема. «Каждый интеллигентный человек должен выдавливать из себя Сартра... Страсть к философии и деконструкции — есть проявление самых вульгарных черт образованного человека. Эта пошлейшая страсть, навязанная французскими контркультурными извращенцами, иссушает душу, это алжирский ветер, выедающий глаза всем, кто еще способен смотреть», — беспощадно припечатывает автора книги, целиком построенной на деконструкции стереотипов, ее главный герой.
Собственно, на этих почти полутора тысячах страниц Эдуард Веркин — «устами героя» — сказал о романе больше, чем могут написать любые критики, и благожелательные, и настроенные на самый жесткий хейт. Осталось разобраться, где автор кокетничает, где сознательно водит читателей за нос, а где — искренне признается в намерениях. Задача благородная, безумно увлекательная, но, боюсь, почти непосильная. И об этом Веркин тоже предупреждает со всей пролетарской прямотой: «Правда и ложь в наши дни слились до степени тождественности. Так что нет никакого смысла говорить неправду. Смело говорите правду — вам все равно никто не поверит».