Слово — болезнь, язва, рак
Об Алексее Чичерине, одном из основателей поэтического конструктивизма
Стихи, отпечатанные на прянике, конструэмы и преодоление слова, влекущего поэзию к гибели: в издательстве ЕУ СПб вышло полное собрание сочинений Алексея Чичерина, одного из зачинателей поэтического конструктивизма, почти забытого автора, выпавшего из истории авангардного искусства. Книга вышла в серии Avant-Garde, половину ее составляют исследования, комментарии, редкие архивные изображения и документы. По просьбе «Горького» об идеях и произведениях Чичерина рассказывает Татьяна Сохарева.
Алексей Чичерин: Конструктивизм воскрешения. Декларации, конструэмы, поэзия, мемуары. Исследования и комментарии / Сост. А. Гончаренко; под ред. А. Россомахина; статьи С. Бирюкова, А. Гончаренко, О. Мороза, А. Россомахина. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019
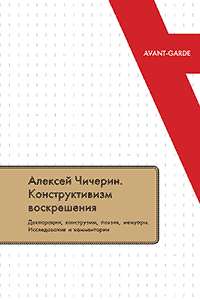 «За недостатком в типографиях знаков, тембры и интонации с точностью подлинника в этой книге шрифтоваться не могут», — предупреждал читателей Алексей Чичерин (1889–1960). Одного взгляда на его стихи-конструкции достаточно, чтобы оценить масштаб затеи. До сих пор сложно сказать, почему один из наиболее радикально мысливших поэтов XX века проходил в чудаках едва ли не всю жизнь.
«За недостатком в типографиях знаков, тембры и интонации с точностью подлинника в этой книге шрифтоваться не могут», — предупреждал читателей Алексей Чичерин (1889–1960). Одного взгляда на его стихи-конструкции достаточно, чтобы оценить масштаб затеи. До сих пор сложно сказать, почему один из наиболее радикально мысливших поэтов XX века проходил в чудаках едва ли не всю жизнь.
Чичерин искренне считал слово «болезнью, язвой, раком, который губил и губит поэтов и неизлечимо пятит поэзию к гибели и разложению» и изо всех сил стремился его преодолеть. Вначале он решил увеличить смысловую нагрузку на «единицу словесного материала», для чего в ход пошли алгебраические, музыкальные и типографские знаки, графики, геометрические фигуры всех мастей (черточки, ромбы, дуги, ударения) — одним словом, все, что могло приблизить его к визуализации «физиологии» речи. Из-под его пера выходили немыслимые по меркам самых смелых экспериментаторов эпохи «конструкции» и «конструэмы», зубодробительно серьезные декларации и теоретические трактаты, а также одна графическая поэма, выполненная «по заданию и коррективам автора» другим художником. Все это выглядит как неслыханная дерзость, на которую не решились даже футуристы — главные идейные противники поэта, которых он столь яростно пытался спихнуть с парохода истории.
Сборник, подготовленный издательством Европейского университета, — большое событие: он заново открывает Алексея Чичерина как поэта и помогает определить его место в контексте авангардных экспериментов XX века. В книге представлен практически полный корпус его работ, известных на сегодняшний день (часть текстов долгие годы пылилась в архиве), репринты редчайших изданий 1920-х годов, исследования и комментарии.
Мы располагаем весьма скудной информацией о жизни Чичерина. Вне поэзии он работал незаметным техническим редактором и прожил отведенное ему время, не оставив потенциальным биографам надежды выяснить сколько-нибудь яркие детали. Единственный срок — весьма умеренный по меркам эпохи — он получил во время Второй мировой войны, когда заведовал книжными киосками: его обвинили в растрате. В довольно скромной автобиографии, составленной как раз-таки после войны, Чичерин пишет, что «призвание книжника почувствовал со школьной скамьи, когда пристрастился к чтению», но о своих авангардных опытах 1920-х годов не говорит ни слова.
Между тем известно, что первую книжку стихотворений, вышедшую до революции в Харькове, он считал крайне неудачной и никогда не упоминал о ней, а по некоторым данным — скупил большую часть тиража и уничтожил, следуя, очевидно, гоголевской традиции. Период наибольшей поэтической активности пришелся у него на 1920-е годы. Примерно в это время Чичерин перебрался в Москву и поначалу приобрел известность как декламатор поэзии Владимира Маяковского. Тогда современники видели в нем большого оригинала и замечательного чудака, а уже в 1922 году вышел его поэтический сборник «Плафь», произведения из которого Чичерин наказал читать «московским говором».
В то же время оформилась первая группировка поэтов-конструктивистов. Чичерин вместе с поэтом Ильей Сельвинским и литературным критиком Корнелием Зелинским, который взял на себя роль теоретика, провозгласили себя новой литературной школой и взялись разрабатывать принципы «конструктивного построения литературного произведения». Изначально группа мыслилась как альтернатива изжившему себя футуризму с его «лирическими абстракциями» и «перманентной полемичностью», но постепенно между этими направлениями обнаруживалось все больше общих черт.
Боевым крещением конструктивистов стала презентация в Политехническом музее декларации «Знаем (Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов)» в 1923 году. Выступал Илья Сельвинский — в будущем бессменный председатель Литературного центра конструктивистов, к которому Чичерин, впрочем, уже не будет иметь никакого отношения. В 1924 году поэты выпустили свой первый и единственный совместный сборник «Мена всех». На словах они следовали за уже оформившимся архитектурным конструктивизмом, который стремился поставить искусство на службу обществу и стать воплощением «настоящего живого и целесообразного труда», а на деле занимались преимущественно формальными проблемами — по крайней мере именно такая тенденция отчетливо прослеживается в творчестве Чичерина.
Вскоре, заигравшись в формалистические «штукарства», как отзывалась о его опытах советская пресса, он рассорился со своими соратниками. Расхождения были принципиальные. Бывшие друзья и оппоненты Чичерина мыслили поэзию как плацдарм для прорыва в светлое индустриальное будущее. Они провозгласили культ техники, порядка, рационального начала и называли себя «переходниками» («Мы взвесили, сколько литров крови / Нам придется истратить», — писал Сельвинский). Позже, когда вокруг Сельвинского и Зелинского действительно образуется литературная школа, их сборник «Госплан литературы» в пух и прах разнесет Виктор Шкловский: «Вся теория конструктивистов случайна, натянута, чтобы покрыть расползающуюся или сползающуюся, но не цельную группу. <…> Конструктивисты хотели быть футуристами без ошибок. Нельзя работать только развертывая себя, нужно работать себя переламывая».
 Как будто в насмешку над идеей целесообразности в 1924 году Чичерин отпечатает конструкцию «Авеки Веков» на прянике в 15 экземплярах. Свое творение он презентовал как «издание пряничное, вкусное, с обильным присутствием мяты». Пряники эти были выпечены в Моссельпроме и розданы автором коллегам по цеху.
Как будто в насмешку над идеей целесообразности в 1924 году Чичерин отпечатает конструкцию «Авеки Веков» на прянике в 15 экземплярах. Свое творение он презентовал как «издание пряничное, вкусное, с обильным присутствием мяты». Пряники эти были выпечены в Моссельпроме и розданы автором коллегам по цеху.
Еще один существенный аспект, который не мог не сказаться на творчестве Чичерина — его безграничное честолюбие, которое, впрочем, сыграло с поэтом злую шутку: его амбициям не суждено было реализоваться даже наполовину. Свои теоретические построения Чичерин мыслил как итог всех литературных направлений, он стремился пересмотреть сам феномен поэзии, переоценить все существующие литературные категории — визуализировать фонетику, реформировать орфоэпику, уравнять знаковые системы. Работы непочатый край! И, конечно, новаторство Чичерина во многих поднятых им вопросах было более чем сомнительным.
Чувствительный к веяниям той эпохи читатель непременно изобличит этот с чужого плеча снятый радикализм и поймет трагичность такой позиции. Слишком уж много совпадений — начиная с самой первой его книги «Шлепнувшиеся аэропланы», близкой к эго-футуризму. Однако динамика отношений Чичерина с соперниками по литературной гонке не так однозначна, как кажется с высоты прошедших лет. Конструкции Чичерина действительно напоминают о футуристических опытах, касавшихся зрительного и слухового начал в поэзии, но были и расхождения. Чичерин отмежевывается от футуризма как минимум в одном принципиальном вопросе. Вопрос этот связан с центральным понятием, вокруг которого Чичерин выстраивал свою семантическую утопию, — «знак Поэзии».
Филологи Татьяна Цвигун и Алексей Черняков считают, что Чичерин использовал это понятие, подразумевая, что художественное произведение — целостный знак. К той же мысли подводит и сам поэт: «Первое место в Поэтическом „языке” должен занять знак картинного предстояния, называемый пиктограммой, и образ в предмете… Путь развития Конструктивизма — к картинным предметным конструкциям без названия». Во главу угла Чичерин ставит способ организации материала, поясняя, что это «первое, с чем сталкивается человек, стремящийся принять образ действительности». Отсюда и столь пристальное внимание к фактуре речи, которое, однако, напоминает не столько о созвучных поисках Алексея Крученых в области слоговой фактуры («Односложные слова резче, отрывистее и (часто) тяжелее многосложных»), сколько об идеях лучиста Михаила Ларионова («Живопись самодовлеюща, она имеет свои формы, цвет и тембр»).
Своеобразную критику языка Чичерин предлагает в декларации «Кан-Фун». Здесь же он предпринимает попытку создания системы знаков для «краткостей и долгот, тембров, темпов, тонаций, интонаций». Таким образом, Чичерин хотел не только сделать акцент на звуковой природе стиха, но и, как писал о нем Корнелий Зелинский, «геометризировать» звук. В желании визуализировать речь и вернуть ей материальное начало он пошел дальше своих предшественников. Чичерин полагал, что для «знака Поэзии» пригодны любые материалы — камни, дерево, металлы, красящие вещества, тесто. В связи с этим литературовед и поэт Сергей Бирюков отмечает, что увлеченность Чичерина «бесконечно малыми элементами словесного выражения» очень созвучна современной медийной культуры с ее эмодзи, пиктограммами и значками.
 Порой от вербальных элементов в произведениях Чичерина ничего не оставалось, их полностью заменяла графика — по мнению поэта, семантически более емкая, чем слово как таковое. Если конструэмы и конструкции в какой-то мере все же оставались текстами, поддающимися дешифровке, то такие вещи, как «Звонок дворнику», являются уникальными для истории литературы событиями. Поэму (Чичерин настаивает на этом жанровом обозначении, которое, собственно, и возвращает его творение в мир литературы) рисовал по его заказу художник Борис Земенков. Она состоит из шести глав, каждая из которых словно кадр, выхваченный из фильма, или страница графического романа без слов. Ее можно прочитать линейно: в каждый кадр вмонтирована голова Чичерина — вырезанная из фотографии или перерисованная с нее, — которая торжественно взрывается в финале.
Порой от вербальных элементов в произведениях Чичерина ничего не оставалось, их полностью заменяла графика — по мнению поэта, семантически более емкая, чем слово как таковое. Если конструэмы и конструкции в какой-то мере все же оставались текстами, поддающимися дешифровке, то такие вещи, как «Звонок дворнику», являются уникальными для истории литературы событиями. Поэму (Чичерин настаивает на этом жанровом обозначении, которое, собственно, и возвращает его творение в мир литературы) рисовал по его заказу художник Борис Земенков. Она состоит из шести глав, каждая из которых словно кадр, выхваченный из фильма, или страница графического романа без слов. Ее можно прочитать линейно: в каждый кадр вмонтирована голова Чичерина — вырезанная из фотографии или перерисованная с нее, — которая торжественно взрывается в финале.
Особняком в творчестве Чичерина стоит единственное его позднее произведение — грузная и неповоротливая «Поэма», которая изобилует намеками на литературных деятелей тех лет, анекдотами и эзоповыми размышлениями о смысле жизни («Звучащим гордо! я родился, / а, вроде, рыбой обратился — / безмолвной щукой жизнь верша…»). Он едва успел завершить этот труд до смерти, последовавшей в 1960 году. Отчасти это была попытка окинуть свежим взглядом проблемы, бывшие для него актуальными в конструктивистский период. Отчасти же речь идет о сатирическом варианте автобиографии души, которую «в тушу загрузили» и оставили тлеть — охаянную и окаянную.
В этом произведении, как, пожалуй, и во всем творчестве Чичерина, сквозит ощущение истерической недосказанности. Он стремился к семантической полноте и универсальности, но зачастую лишь множил энтропию. На самом деле куда любопытнее проецировать чичеринские эксперименты в будущее. Возможно, нам еще предстоит разговор о родстве конструктивизма с концептуальной поэзией. Ведь как раз этому типу художественного мышления свойственен интерес к тотальному перекодированию среды и близки подобные рассуждения Чичерина: «Поэтическое восприятие мира свойственно каждому; оно сохраняется или утрачивается в зависимости от характера знака, в котором показано».